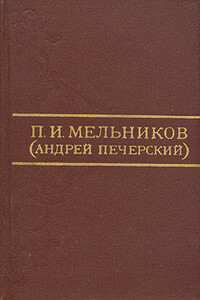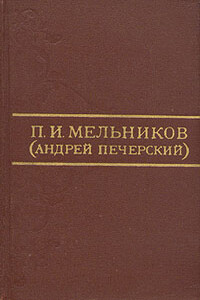Очерк жизни и творчества | страница 25
Слабость этой позиции временами ощущалась и самим Мельниковым. Крупный министерский чиновник, он хорошо знал, каково тогда было русское правительство. Самые влиятельные посты занимали коноводы крепостнической партии — все эти Орловы, Панины, Муравьевы, Долгорукие, каждый из которых, по словам Мельникова, был «пропитан помещичьим духом с ног до головы».
И снова надежды возлагались на царя. Но эти надежды были шаткими. «Темная партия сетьми опутывает государя. Доброго что-то не предвещает настоящее»,[14] — писал Мельников в своем дневнике за 1858 год. Для его тогдашних настроений чрезвычайно характерна дневниковая запись от 22 марта 1858 года: «…Встретился с Сергеем Васильевичем Шереметьевым и ходил с ним по Невскому и по Литейной более двух часов… Он, разумеется, против освобождения… Шереметьев сказал, между прочим, что еще будут перемены в этом деле, но какие, не говорил. Он в связях и родстве с великими мира сего и, конечно, говорит не без основания. Что же это будет? Народу обещали свободу, назначили срок и правила; народ ждет; везде тихо, спокойно, несравненно спокойнее, чем прежде, и вдруг, если Шереметьев правду говорит, пойдет дело в оттяжку. Таких дел откладывать нельзя, а то, чего доброго, и за топоры примутся».[15]
Хотя Мельников никогда не считал себя единомышленником либералов 50-60-х годов, его позиция в общественной борьбе того времени в главном и существенном совпадала с их позицией. Его сочувствие закрепощенному крестьянству было вполне искренним, но возможность освобождения народа от помещичье-чиновнического гнета «снизу», то есть силами самого народа, страшила его больше, чем козни крепостников. В период революционной ситуации 1859–1861 годов, когда возмущенные крестьяне все чаще и чаще принимались за топоры, когда борьба революционных демократов становилась все более решительной, Мельников при всей его ненависти к «помещичьему духу» оказался в лагере реакции.
Однако было бы ошибочно думать, что Мельников теперь начисто отказался от своих просветительских убеждений. Они неизбежно прорывались в его действиях и поступках. И это хорошо понимали вчерашние его противники: ревностные охранители самодержавно-крепостнического режима не могли забыть и простить рассказов и повестей Печерского и не считали Мельникова «своим человеком». Да он и сам в эти годы был далек от уверенности в правоте своей общественной позиции. Только этим и можно объяснить новое третье молчание Мельникова-беллетриста, на этот раз продолжавшееся около восьми лет (1860–1868 гг.).