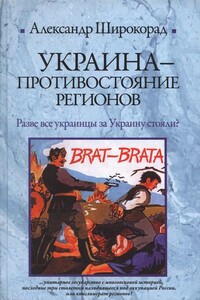Альтернатива Москве. Великие княжества Смоленское, Рязанское, Тверское | страница 64
Ярослав и не пытался присвоить себе фактическое старшинство. Он был вполне доволен своим Черниговским уделом и взял с Мстислава клятву поддерживать его в Чернигове. Если существовала подобная клятва, стало быть, существовали и причины, по которым ее требовали. Вероятно, кто-нибудь из родных племянников Ярослава – Давидовичей или Ольговичей – показывал неуважение к правам дяди, который по своему личному характеру не мог приобрести влияния на младших князей. Опасения Ярослава вскоре оправдались.
В 1127 г. Всеволод Ольгович напал на Чернигов, пленил дядю, а дружину его перебил и ограбил. Такая удача Всеволода объясняется сочувствием к нему черниговских граждан, которые, может быть, тяготились княжением Ярослава. Великий князь изъявил намерение наказать Всеволода и возвратить удел своему дяде. Поэтому он вместе с братом Ярополком начал готовиться к походу на Чернигов.
Всеволод поспешил отпустить Ярослава в Муром и призвать на помощь половцев. Последние действительно пришли в числе 7000 человек, но от реки Выри повернули назад. Всеволод Ольгович начал упрашивать Мстислава, подкупал его советников и таким образом протянул время до зимы.
Когда пришел из Мурома Ярослав и стал говорить киевскому князю: «Ты целовал мне крест, ступай на Всеволода», Мстислав находился в затруднительном положении: с одной стороны, обязанность наблюдать справедливость между младшими родичами и крестное целование побуждали его вступиться за дядю; с другой – виновный Всеволод приходился ему зятем, потому что был женат на его дочери. За последнего стояли лучшие киевские бояре, в пользу его подал голос Андреевский игумен Григорий, который пользовался расположением еще Владимира Мономаха и был почитаем всем народом.
Великий князь в раздумье обратился к церковному собору, так как после смерти митрополита Никиты место его оставалось тогда незанятым. Нетрудно было предвидеть решение собора, потому что большая часть голосов уже заранее принадлежала Всеволоду. К тому же формально духовенство считало одной из главных своих обязанностей отвращать князей от междоусобий и пролития крови. Так оно поступило и теперь: собор принял на себя грех клятвопреступления. Мстислав послушался, что дорого обошлось ему позже, «и плакася того вся дни живота своего», скажет о нем летописец.
Ярослав оставил всякую попытку поддерживать свои права, с грустью воротился в Муром, прожил там еще два года и скончался в 1129 г.
Историк Иловайский писал: «Между тем как деятельность Ярослава, главным образом, сосредоточивалась около Мурома и Чернигова, для нас замечательна та роль, которую приняла на себя в то время Рязань. С тех пор как Тмутаракань, отрезанная половцами от южной России, исчезает в наших летописях, ее значение отчасти перешло к Рязани, которая также лежала на Русской украйне: младшие безудельные князья, обиженные старшими, – так называемые изгои – находят здесь для себя убежище. Под 1114 г. есть известие о кончине двух таких князей в Рязани: один из них был Роман Всеславич Полоцкий, неизвестно каким образом сюда попавший; другой – Мстислав, внук Игоря Ярославича и племянник известного Давида Игоревича; последний являлся верным помощником своего дяди, участвовал в половецких походах, а потом грабил суда на каком-то море. В Рязани же скончался в один год с Ярославом Михаил Вячеславич, внук Мономаха. Кроме того, есть известие, что Ярослав Святославич, изгнанный в 1127 г. из Чернигова, на пути в Муром оставил в Рязани какого-то Святополка; но потом о Святополке более не упоминается. По смерти Ярослава Святославича все Муромо-Рязанские земли достаются его сыновьям Юрию, Святославу и Ростиславу.