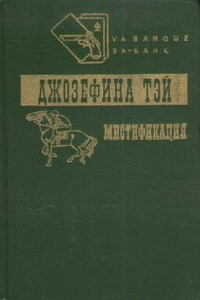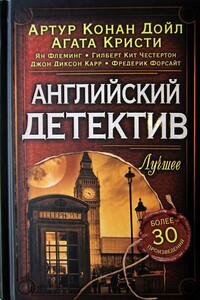Поющие пески | страница 27
— Пат, ты не должен называть уроки религии потерей времени.
— Я вообще ничего не буду, если так дальше пойдет. Зачахну насмерть.
— По какой это причине?
— От недостатка свежего воздуха.
Лаура разразилась смехом.
— Знаешь, Пат, ты великолепен! — Но не следовало смеяться над Патом. Он относился к своим делам с потрясающей серьезностью.
— Хорошо, смейся, — сказал он с горечью. — Будешь потом каждое воскресенье ходить в церковь, чтобы положить венок на мою могилу. Не будешь ездить в Скоон.
— Мне и в голову не придет подобная экстравагантность. Несколько маргариток время от времени, если буду там проходить, — это все, на что ты можешь рассчитывать. Иди, надень шарфик.
— Шарфик! В марте!
— Холодно. Надень шарфик. Чтобы ты не захирел.
— Очень тебя беспокоит, чтобы я не захирел! Гранты всегда были скрягами. «Несколько маргариток». Нищие скряги. Счастье, что я Ранкин, и очень рад, что не должен носить этот противный красный тартан.[2]
Истертый кильт Пата был зеленого цвета рода Мак-Интир, который больше подходил к его рыжим волосам, чем веселый тартан Грантов. Это был домотканый холст, сотканный матерью Томми, которой, как верному члену рода Мак-Интир, было приятно видеть внука одетым «во что-то порядочное», как она это определяла.
Обиженный мальчик сел на заднее сиденье, внутренне кипя, а ненавистный шарфик небрежно бросил на спинку.
— Язычники не ходят в церковь, — начал он снова, когда машина покатила вниз по дороге.
— Кто же это язычник? — спросила его мать, занятая управлением машиной.
— Я магометанин.
— Поэтому тебя надо тем более послать учиться в церковь, чтобы ты обратился в истинную веру.
— Мне не нужно никакого обращения. Мне хорошо и так, как есть. Я не признаю Библии.
— Значит, ты плохой магометанин.
— А это почему?
— Потому что даже они частично признают Библию.
— Могу поспорить, что без Давида.
— Тебе не нравится Давид?
— Слюнтяй, только танцует и поет, как девушка. Во всей Библии не найдешь такого, что смог бы продать овец на ярмарке.
Он в напряженной позе сидел посередине заднего сиденья, слишком возбужденный, чтобы сесть свободнее, и со злобой в глазах понуро смотрел перед собой. Грант подумал, что другой на его месте дулся бы, зажавшись в угол, и его радовало, что злость племянника была не жалостным стенанием, а внезапным гневом.
Обиженный язычник вышел около церкви, все еще гневный и напряженный, и, даже не оглянувшись, направился в сторону группы детей, собравшихся около бокового входа.