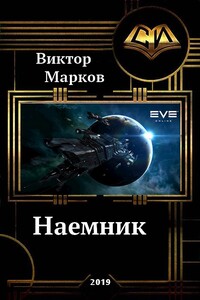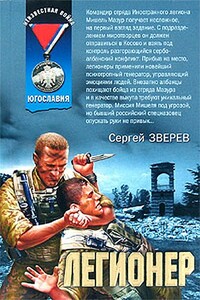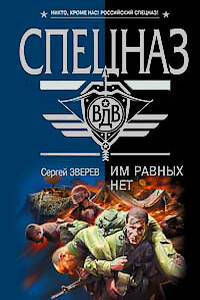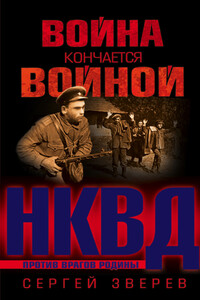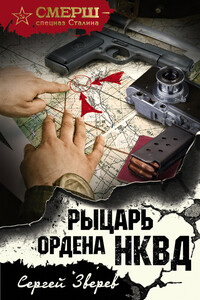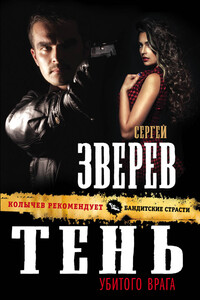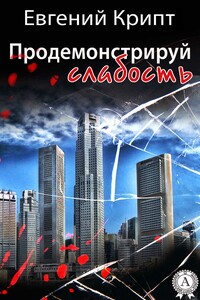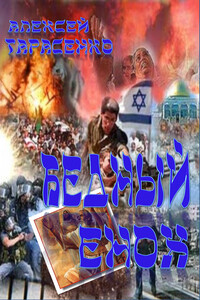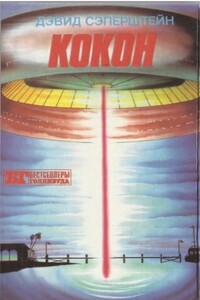Принцип мести | страница 50
На сей раз Игнатий прислушивался к своим ощущениям.
– Хорошо, – сказал он, – я готов признать существование несотворенной свободы. Ангельский верховный князь Люцифер своим восстанием только подтверждает это. Как и то, что за ним последовали целые небесные полчища. Возбудив в себе адский огонь, он сделался дьяволом. Своим неполсушанием противопоставил себя Богу и Адам. Это значит, что и он воспользовался своей свободой. Ответственность Бога за свободное волеизъявление твари таким образом снимается.
– Но тем самым признается существование чего-то помимо Бога?
– Да. Это несотворенная свобода.
– Бог – первый демократ. Именно ему мы обязаны свободой выбора. Ему и Люциферу, поскольку он олицетворяет зло.
– Дьявол есть сила, паразитирующая на добре. Я позволю себе цитату...
Игнатий уронил подбородок на грудь и с видом величайшей сосредоточенности замолчал. Безмолвствовал он так долго, что я не удержался и постучал вилкой по графину, требуя немедленно озвучить обещанную цитату.
– Не ручаюсь за точность, но смысл высказывания таков: Бог допускает зло, поскольку в своей премудрости имеет возможность извлекать из зла высшее благо или наиболее возможное совершенство. Это и есть причина существования зла. Нельзя допустить ни того, чтобы Бог утверждал зло, ни того, чтобы он отрицал его безусловно: первого потому, что тогда зло было бы добром, а второго потому, что зло не могло бы существовать вовсе, но, однако, оно существует. Бог отрицает зло как окончательное или пребывающее, и в силу этого отрицания оно и погибает. Но Он допускает его как преходящее условие свободы, то есть большего добра. Бог терпит зло, поскольку прямое его отрицание или уничтожение было бы нарушением человеческой свободы, а значит, большим злом, так как делало бы совершенное, или свободное, добро в мире невозможным...
Я слушал Игнатия со смешанным чувством: какая-то часть моего существа была поглощена предметом нашего разговора, увлечена сложной траекторией мысли, ее пируэтами, но было во мне и что-то чуждое всему этому, противящееся столь категоричной постановке вопроса и глубоко недоумевающее по поводу всего происходящего. Возможно, на меня слишком сильно воздействовала абсурдность обстановки (ночь, келья, богословские споры, прерываемые лишь сорокоградусным стаккато) или публичная форма обмена религиозными взглядами, сокровенным. И еще мне казалось, что кроме нас вряд ли найдется на земле хоть один человек, которого в такой же степени волновали бы обсуждаемые нами проблемы. Мертвый, схоластический спор. Но оставалась маленькая надежда: возможно, где-то там, в недоступном для простого смертного измерении, к нам прислушивается сонм русских философов-богоискателей, тени которых мы имели неосторожность так дерзко потревожить, а за ширмой времен прячется незримо присутствующий среди нас Ориген, незаслуженно раскритикованный отцами церкви за вольнодумство.