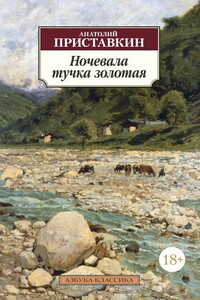Вагончик мой дальний | страница 30
Потом кликнула Зою и Антона, то есть меня, велела дальше по душам разложить.
Мы с Зоей стали с двух концов продукт брать, и руки наши встретились. Не так, как приказано на танце: «Саша, ты помнишь наши встречи»… По-другому. Случайно. Я прикоснулся лишь, почувствовал, что руки у нее не ледяные вовсе. Руки-то теплые у нее. Даже горячие.
Я свои отдернул с непривычки. Посмотрел нечаянно и увидел, что и глаза у нее блестящие, ярко зеленые, еще зеленей травы вокруг нас. И никакой черной ненависти. Скорей удивление. Будто она тоже меня первый раз видит.
А еще я углядел — это невозможно было заметить — затаенную боль на донышке зрачка. Меня как по сердцу резануло. Отпрянул. А она поняла, что выдала себя, и демонстративно отвернулась. Не захотела дальше в себя пускать.
Я об этом долго думал. Там, на лужайке, и в вагоне, куда нас загнали на ночлег. В штабной вагон в эту ночь нас не повели. Отцы-командиры уехали на грузовике в район, чтобы получить дальнейшие указания, что с нами делать. Краем уха в последний раз мы с Шабаном уловили среди прочего пьяного бреда слова, что вышло будто бы указание сверху о мобилизации подростков после пятнадцати лет на какой-то трудовой фронт. А он тут, рядышком… И с немчиком, так называемым Ван-Ванычем, пора побыстрей расстаться. Запихнуть бы его в немецкие лагеря, коих на Урале понапихано повсюду, пусть со своими и балакает, там есть кому держать их фашистский язык под контролем! А у нас, кроме «хенде хох», никто ничего не шпрехает. Охранник командует: мол, приказываю по-вражески, не выражаться… Так он песни начинает петь. А что поет — неизвестно.
Я еще тогда ехидно подумал: шпрехаем, да фиг вам скажем. Мы даже стихи с Ван-Ванычем о розах шпрехаем, только не свиньям о розах читать! Розляйн, розляйн, розляйн рот… Как там дальше?.. В общем, дикая розочка в голом поле… Это ведь про Зою, это она — розочка посреди поля. Господи, как вдруг понятней стали эти слова!
И вот что еще пришло в голову: слава Богу, что сегодня не надо с ней под патефон танцевать. Лучше встретить на лужайке, где она — другая.
Мне почему-то жалко ее стало. В штабном вагоне ее не жалко, а тут вдруг проняло. Будто два разных человека: там — бесчувственная лягушка, а тут — Василиса, которая сбросила лягушачью кожу. Василиса с печалью на дне зрачков. Там, в штабном, я от нее бежал бы стремглав, а тут, наоборот, цельный день следующий ходил, высматривал, чтобы быть к ней поближе. А зачем — сам не знаю.