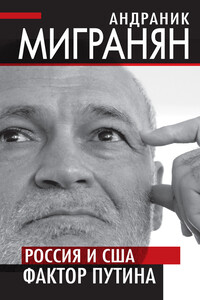«Притащенная» наука | страница 64
Как бы там ни было, сегодня понятно другое. Если не «умни-чать», не подводить под позицию русских ученых надуманные и как бы оправдывающие их резоны, а посмотреть на сложившуюся в годы Гражданской войны ситуацию трезво, то станет ясно: оставшиеся в России ученые были обречены на сотрудничество с советской властью; им, как говорится, просто деться было некуда.
В противном случае их бы безжалостно раздавили.
Тут двух мнений быть не может: коммунистический режим ученые Академии наук не признали.
А коли так, то почему уже через несколько месяцев после прихода большевиков к власти они вступили с ними в активный контакт?
Ответы давались разные: в годы советской власти уверенно говорили о том, что ученые сразу поняли преимущества социалистического строя и все свои силы отдали строительству светлого будущего [164]; затем предпочли рассуждать о высоких идеалах: служение народу, наука во благо простого человека и т.д. – у интеллигенции и большевиков они явно совпадали; поэтому, мол, научная интеллигенция даже социальный заказ неприемлемой для них власти воспринимала в точном единении со своими внутренними побудительными принципами научного творчества [165].
На самом деле все, вероятно, было проще и трагичнее. После Октября 1917 г. перед учеными встала дилемма: либо эмигрировать, либо остаться. А коли остаться, то надо работать. Они оказались политически предельно наивны в своей надежде скорого и бесславного конца ненавистной им власти, зато они точно знали, что сколько бы она не продержалась, без науки ей не обойтись; она – пусть и вынужденно, но будет ее финансировать, Академия сумеет отстоять автономию, и ученые смогут продолжить свои исследования.
Поэтому требовалось одно: сохранить Академию как целостный научный организм, добиться ассигнований на исследования и, не обращая, по возможности, внимания на псевдореволюционную вакханалию советского чиновничества, продолжать работу.
Со стороны властей задача стояла иная: требовалось как можно быстрее заставить Академию наук добровольно подчинить свою работу нуждам социалистического строительства. А поскольку цели при этом преследовались прежде всего политические – коли сама Академия наук перейдет на сторону советской власти, то это станет козырным тузом в пасьянсе мировой революции, который уже составили новоявленные вожди, – никакого насилия, никакой ломки традиционных академических структур не предполагалось. Более того, власти готовы были удовлетворить практически любые требования ученых (отсюда ЦеКУБУ, декрет о помощи работам академика И.П. Павлова, создание множества новых институтов в системе Академии), лишь бы Академия наук