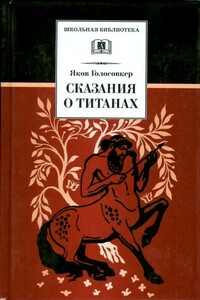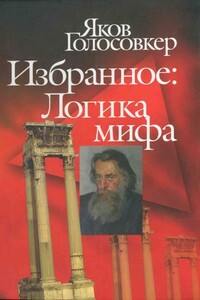Логика античного мифа | страница 46
Субъект – как образ «голодающий». Предикат – как образ «пища». Они претерпевают одновременно метаморфозу, находясь между собой в неразрывной логической связи.
Три конкретных образа – Тантал, Финей и царь Мидас – олицетворяют голод утолимый, но не утоляемый, и только один образ – царь Эрисихтон – представляет голод неутолимый, независимо от того, утоляют ли его или не утоляют.
Однако тема тотчас оборачивается. Неутоление голода вызывает по контрасту образ утоления голода – сперва пищей запретной, а затем пищей чудесной. Спутники Одиссея поедают золоторогих быков Гелия – это пища запретная. Чудо дочерей Ания в ахейском лагере, обращающих все, к чему прикоснутся, в хлеб – это пища чудесная.
Итак, голод утолимый, но не утоляемый.
1. Тантал. – Тантал в Аиде терпит вечный голод и жажду. Пищи вдоволь. Над его головой свисают плоды. У его уст протекает студеный ручей. Но чуть он протянет губы – ветки с плодами отклоняются, ручей убегает. Танталов голод – как пища, вечно дразнящая и вечно ускользающая от голодного. Она всегда налицо, но недостижима.
2. Финей. – Финей терпит вечный голод. Ему ежедневно подают на стол пищу. Но не успеет он к ней прикоснуться, как налетают чудовища-Гарпии. Эти крылатые птицы [66] Зевса, птицы с девичьими головами, мгновенно либо пожирают пищу, либо гадят в пищу, обращая ее в несъедобную вонь. Финеев голод – как пища, либо поедаемая на глазах голодного, либо уничтожаемая бесполезно другими. Она всегда налицо, но недостижима.
По контрасту – чудо дочерей жреца Ания в ахейском стане: чудесное превращение всех предметов в хлеб от одного прикосновения к ним руки дочерей Ания.
3. Царь Мидас. – Мидас терпит вечный голод. За гостеприимство, оказанное им Силену, Дионис предоставляет царю право потребовать у него выполнения любого желания, но только одного. А алчный царь Мидас пожелал, чтобы все, к чему бы он ни прикоснулся, обращалось тотчас в золото.
Обилен пищей и питьем царский стол. Но чуть дотронется до пищи или питья рука Мидаса, как пища превращается в драгоценный металл – в золото. Мидасов голод – как пища съедобная, неуничтожимая, но превращаемая в высшую, однако несъедобную и поэтому бесполезную ценность. Пища всегда налицо, но она недостижима.
В формальном аспекте превращение пищи из съедобной в несъедобную в мифе о царе Мидасе как бы дублирует смысл мифа о царе Финее, и тема в нем даже сужена. Но это не так. Именно смысл здесь иной.
И не в моральной окраске, не в посрамлении корысти суть, и не в приоритете ценности жизни над жизненной ценностью – над золотом, а в дерзании героя-человека, претендующего на обладание абсолютом: человек претендует на право вечного выполнения своих желаний, то есть на обладание силой, равной силе волшебного предмета или бога. В этом суть его вины. Такой силой может обладать только бессмертный. Поэтому дерзание царя Мидаса – «богоборчество». Бог Дионис испытывал Мидаса, подобно тому как Зевс испытывал Иксиона (в трагедии «Царь Иксион» И. Анненского). Но Мидас не понял иронии Диониса, предложившего ему исполнить любое желание, и остался «навсегда голодным».