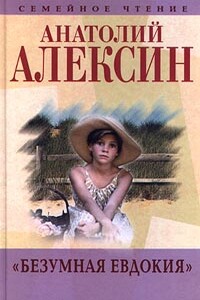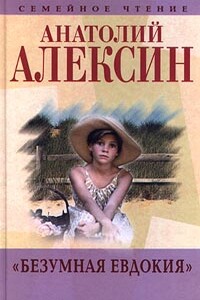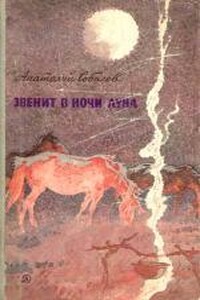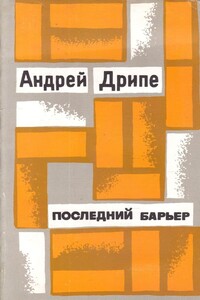Награде не подлежит | страница 40
Но хоть и оправдывала теперь Люба мичмана, но все же понимала: въявь ничего не сказано, но толковали-то о том самом, за что сковородкой запустила...
Смятенно думала Люба, не зная, кто прав из них – она ли, мичман ли?..
Звонкие, не окрепшие еще голоса под открытым окном оборвали ее растерянные думы. Дергушин и Хохлов шли с залива и, как всегда, пели эту песенку возле ее окна. Пересмешники. Каждый раз вот так орут, выделяя слово «Люба». Одетые в водолазные серые свитера, в шерстяных фесках на голове и в кирзовых сапогах, они нарочно строевым шагом «пропечатали» по каменной тропинке. Ощеряясь до ушей, держали равнение на Любу, будто на адмирала. Зелененькие мальчишечки, им бы с мамками еще жить, а они под водой работают и вот что с ними приключается. Господи!
Опять подумала о Косте. Господи, ну за что ему такое наказанье! Вспомнила слова мичмана, что сказал он однажды за чаем: «Доктора говорят – потрясенье ему надо. Чтоб какая женщина помогла ему. Тогда, глядишь, направится малый, нормальным человеком станет». Устроила она мичману потрясенье сковородкой. Люба усмехнулась, но усмехнулась горько, не смешно ей было...
Наутро пришел Артем Николаевич. Вежливо постучался, отводя глаза, хмуро сказал:
– Мичманку оставил.
– Берите. – Люба кивнула на форменную фуражку, висевшую на гвозде.
Кинякин надел мичманку, потоптался у порога.
– Ты... это... извини меня.
– Чего уж, – горько усмехнулась Люба.
– Не хотел обидеть, видит бог.
Мичман мялся, не уходил, она видела – что-то сказать хочет.
– Ну, – подтолкнула Люба.
Кинякин отвел глаза:
– Ты все ж подумай...
– Ты... опять! – Люба задохнулась, из глаз брызнули слезы.
– Вот бабы! – недовольно поморщился мичман. – Ну чего реветь-то?
Он сокрушенно покачал головой.
– Ну чего я такого сказал? Подумаешь! Я ж к тебе как к взрослому человеку, по-товарищески, а ты в слезы да еще... за сковородку. Ты об нем подумай. Пораскинь мозгами-то.
– А обо мне ты подумал! – выкрикнула сквозь слезы Люба. – Что я тебе – сука какая?
– С чего ты взяла? – удивился мичман. – Я такого и в уме не держал. Человека спасать, надо.
– Я знаю, что вы обо мне думаете, – тихо, с горечью и почему-то успокаиваясь, сказала Люба. – Я по утрам-то встаю и дрожу: не измазали чем дверь. Аж сердце заходится, пока дверь отворю.
Мичману знаком был этот деревенский обычай – мазать дегтем ворота, когда хотят опозорить девку. – Я салки-то любому сверну, ежели кто посмеет, – заиграл желваками Кинякин. – Сказки только. Любому.