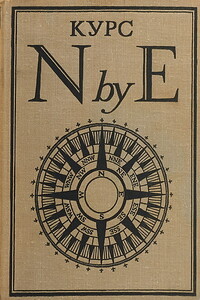Гренландский дневник | страница 39
И тут Саламина повернулась. Нет, не к лестнице, а к нам, сидящим в обнимку, с неподвижными лицами, уставившимися на нее. Она повернулась и поглядела на нас.
— О Саламина! — вскрикнула моя девушка, как будто защищаясь от удара.
И Саламина заговорила. Полился поток презрения, уничтожающий, разрушительный, все сметающий поток, который губил душу, разум, мысль маленького существа, сидевшего рядом со мной. Мне казалось, что я ощущаю, как все это — душа, разум, мысль — покидает ее дрожащее тело. Кое-как она встала и убежала, будто мышонок. И как мышонок, последовал за ней, вниз к двери, и я. А Саламина, непреклонная Саламина, замыкала шествие. Внизу у дверей я и Саламина оказались одни: девушка исчезла. Саламина закрыла за собой дверь, ласково взяла меня под руку и повела домой.
Моя постель была уже постлана на полу. Я разделся и забрался в нее, в то время как Саламина, потушив свет, укладывалась в свою. Вдруг в темноте она встала. Я слышал, как она что-то делает у скамьи, где стоит ведро с водой. Затем она опустилась на колени около меня, отодвинула одеяло от моего лица, вытерла мой рот холодным мокрым полотенцем.
— Спокойной ночи! — сказала Саламина и поцеловала меня.
Четверг, 8 октября. С юга или юго-запада пришла буря. Началась она вчера вечером. Большие волны разбивались о скопление айсбергов, прибитых к суше у южного конца нашего залива. Сегодня утром я побоялся разжечь печь, казалось, что она неизбежно будет дымить. Мы сварили кофе на примусе и, одев Елену, отправили ее из дому. Затем с величайшей осторожностью заложили топливо и разожгли огонь. Тянуло, как в доменной печи! Значит, наш комфорт в эту зиму зависит, или будет зависеть, от изменений в направлении ветра.
Стьернебо все же построил свой сарай. Он пришел ко мне спросить, как построить временное строение, которое можно потом разобрать, не испортив досок. Я рассказал ему. Сарай построили за полтора дня: получился ящик. А теперь, когда временный сарай уже стоит, он никогда не будет разобран.
Я поручил Дукаяку контрабандно доставить мне для примуса два галлона керосина. (Датские постановления запрещают пользоваться в поселке керосином [17]. "Еще не прошло ста лет, — сухо объяснил мне однажды Петер Фрейхен [18], - как керосин вошел в употребление"). Несмотря на законы страны, я не собираюсь мерзнуть, когда ветер будет дуть так, что невозможно топить печь.
Сегодня жарил гагу. Зажарилась она великолепно — так зарумянилась и была такой мягкой, что резалась, будто я погружал горячий нож в масло. Соус тоже мог бы оказаться импровизированным чудом искусства (две чашки крошек черного хлеба, половина чашки мелко нарезанного бекона, одна луковица, четверть чашки нарезанных сушеных яблок, четверть чашки — пожалуй, поменьше — изюму, половина чашки нарезанной картошки), если бы не одна вещь, которая своим запахом предупредила меня за час до того, как я попробовал мясо, — сильный, едкий, почти тошнотворный вкус жира этой птицы. Я решил преодолеть свое отвращение и поел как следует. А сейчас я ничего другого не чувствую, кроме вкуса и запаха этого жира.