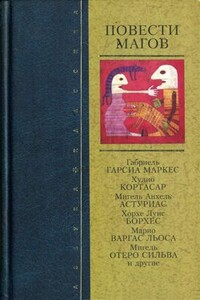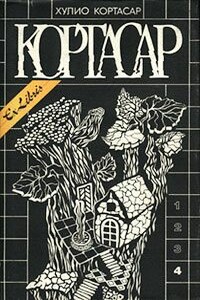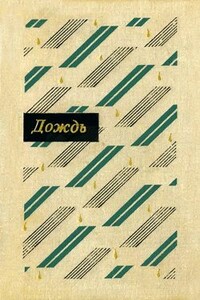Тайное оружие | страница 11
У Мишель своя манера есть: она смешивает все вместе — сыр и анчоусы в масле, салат и кусочки краба.
Пьер пьет белое вино, смотрит на нее и улыбается. Женись он на ней, он каждый день пил бы вот так вино, смотрел и улыбался.
— Любопытно, — говорит Пьер. — Мы никогда не говорили про войну.
— Тем лучше, — отвечает Мишель, подчищая тарелку кусочком хлеба.
— Да, но иногда само вспоминается. Мне-то было не так уж плохо; в конце концов мы тогда были еще детьми. Как сплошные каникулы — полный абсурд, даже забавно.
— А у меня каникул не было, — говорит Мишель. — Все время шел дождь.
— Дождь?
— Здесь, — говорит она, прикасаясь ко лбу. — Снаружи и внутри. Все казалось влажным-влажным, словно в испарине.
— Ты жила здесь?
— Сначала да. Потом, после оккупации, меня отправили к дяде с тетей в Энгиен.
Пьер, забыв о том, что в пальцах у него зажженная спичка, застывает, открыв рот, потом трясет рукой и чертыхается. Мишель улыбается, довольная, что можно переменить тему. Когда она выходит, чтобы принести фрукты, Пьер закуривает сигарету и глубоко, как утопающий — воздух, глотает дым, но уже отпустило, всему есть объяснение, если подумать, сколько раз Мишель упоминала Энгиен, болтая в кафе, — в незначительной фразе из тех, что так легко забываются, пока не всплывают центральной темой какого-нибудь сна или фантазии. Персик — да, только чищеный. Конечно, она очень сожалеет, что все его женщины всегда чистили ему персики, и пусть Мишель не думает, что она исключение.
— Все его женщины. Если они чистили тебе персики, значит, были такие же дурочки, как я. Смолол бы лучше кофе.
— Значит, ты жила тогда в Энгиене, — говорит Пьер, глядя на руки Мишель с легким отвращением, какое чувствует всегда, когда видит, как чистят фрукты. — А твой старик чем занимался в войну?
— Да ничем особенным. Жили, ждали, пока все наконец кончится.
— А немцы никогда не беспокоили?
— Нет, — говорит Мишель, вертя персик в мокрых, липких пальцах.
— Ты первый раз говоришь, что вы жили в Энгиене.
— Не люблю говорить о тех временах, — говорит Мишель.
— И все же как-то раз ты говорила, — противоречит себе Пьер. — Не пойму откуда, но я знал, что ты жила в Энгиене.
Персик падает на тарелку, и кусочки кожицы снова липнут к мякоти. Мишель ножом смахивает кожуру, и Пьер снова чувствует дурноту и изо всех сил налегает на ручку кофемолки. Почему она ничего не хочет ему рассказать? Со страдальческим видом она сосредоточенно трудится над ужасным, истекающим соком персиком. Почему она молчит? Ведь слова так и рвутся наружу, достаточно взглянуть на ее руки, на то, как нервно и часто она моргает, пока это моргание не переходит во что-то вроде тика: половину лица слегка перекашивает, как еще тогда, в Люксембургском саду, он заметил этот тик — знак того, что она недовольна и сейчас надолго замолчит.