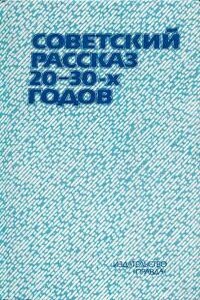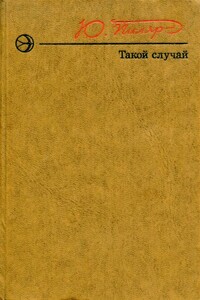Журавлиное небо | страница 190
Нетрудно догадаться, что в понятие «умственной деятельности» Чернышевский включил больше, чем означают эти слова, — он говорил об отсутствии свободы высказывать свои мысли, об отсутствии демократических норм в общественной жизни; вот почему литература должна была брать на себя те функции, какие не могли взять на себя ни общественные институты (их просто не было), ни даже наука.
«Чистая» наука, которая говорила о Белоруссии (спасибо ей за то, что говорила, потому что тогда, кроме нее, у нас говорить было некому), исчерпала себя как раз к тому времени, когда заговорили сами белорусы, когда живой, действенной силой стал именно патриотизм «местный», так сказать, национальный.
Этап Адама Богдановича кончился, начинался этап Максима Богдановича. Это мы понимаем сегодня. Но понимал ли это Адам Егорович? Понимал ли он, что тут закономерное продолжение того, к чему он волею судьбы как ученый был приобщен на краткий, но самый счастливый в своей жизни миг?
Нет, наука не упразднялась, просто теперь была нужда в общественно и национально заинтересованной науке. Еще более необходимы были поэты — непосредственные выразители народных дум. Максим Богданович мог быть и ученым, и публицистом, и критиком — и все только потому, что он был поэт. Как тут не вспомнить Чернышевского!
Раннего, давнишнего Адама Богдановича мы сегодня возвращаем Белоруссии ради него самого. Адаму Богдановичу, судьба которого как ученого в более позднее время сложилась неудачно (не будем говорить, по чьей вине — его или кого-то другого), так вот, этому Адаму Богдановичу мы можем только посочувствовать.