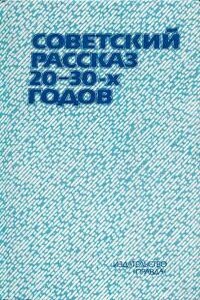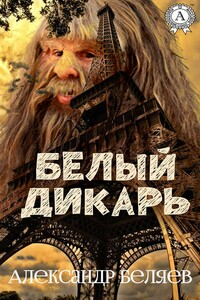Журавлиное небо | страница 181
И что удивительного после этого, если на долю Севера выпали на долгие годы мрак и нищета. В 1867 году архангельский вице-губернатор нашел в Коле только одного чиновника, который был одновременно делопроизводителем, городничим, судьей, казначеем. И спустя более сорока лет ничего здесь не изменилось. В 1913 году на весь край был один фельдшер, проживавший в Александровске (ныне Полярном).
Сегодня в это трудно поверить. Когда в Пулозере начался тиф, тот же единственный на весь край фельдшер смог приехать туда лишь через два месяца, когда все больные умерли. Прежде на Север можно было добраться за год. В наше время самолетом долетишь туда из Ленинграда за полтора часа. Но дело, конечно, не только в этом. Дело в тех новых людях, живущих теперь на Севере, в том ритме жизни, который одинаков ныне во всех уголках нашей страны.
Север, конечно, изменился. Я мог бы написать о новых заводах, дорогах и городах, но этим никого не удивишь. К этому привыкли. Об этом можно прочитать в любом справочнике. Я старался писать только о том, что так или иначе стало моим собственным опытом, прибытком моей души за те шестьдесят суток, которые запомнились как один долгий, бесконечно богатый впечатлениями день.
КОНЕЦ И НАЧАЛО
…Понял я, мысленно возвращаясь назад, к началу очерка, почему не открывалась для меня осень, и удивился самому себе: как было не догадаться раньше? А уж после само собою определилось: ничто не приходит к человеку раньше назначенного срока. Чтобы понять начало, надо знать конец.
А сначала была осень, ее последние дни какой-то спокойно-решительной красоты, и поражало терпение одинокого листочка, трепетавшего на ветке и не желавшего или не умевшего сорваться и упасть. Днем светило солнце, и пустое поле застилала дымка, а в лесу на полянах было сухо, свежо и попадались кое-где у дорог, в местах, обласканных солнцем, белые грибы — с широкими брылями, желтовато-белые с испода и словно оцарапанные чем-то сверху: было им уже нелегко расти из-под травы, из-под опавших хвоинок. Утром на траве лежал редкий иней, слетались к лесному домику сороки и сойки, а куст сирени у крыльца стоял неестественно голый, забросанный внизу темно-зеленой, с отблеском, листвой. Грело солнце, и с сосен струйкой бежала вода, и поднимался, завиваясь в кольца, над сучьями пар: сначала над сухими, потом над теми, где пореже хвойная сень, а затем уже курились паром, блестели на солнце зеленые купы лап. Через день на крыльце в вазоне для цветов взялась льдом вода, и лед не растаял к вечеру, а еще через день в одну ночь оголился лес, и знакомая ель стояла обсыпанная от макушки до земли осиновыми листьями, и как будто пропали яблоки под знакомой лесной яблоней: забросало их листьями. Туман как лег с утра, так и держался весь день: в бору на возвышенности чуть пореже, у дороги в ложбине — густой и низкий. Две ночи не было звезд, сеялась морось, пока ветер не разогнал туман и не высыпали к вечеру звезды. Зачерствела земля, а утром появилось опять солнце. Днем наплыли тучи и пошел снег, чтобы тотчас растаять, — и снова шли дожди, и снова становилась сухой земля, но не пропадал уже ветер, зябкий и пронизывающий. И когда так было день, второй, а потом наступил и третий, кончился, подошел к итогу мой очерк. Тогда оглянулся я назад и понял, что миновала осень, и понял, почему раньше не открывалась она для меня: у меня не было ключа к ней, и Север дал его мне. И понял я, что природа открывается человеку не просто так, а тогда, когда идет он к ней со своей мыслью и своей меркой.