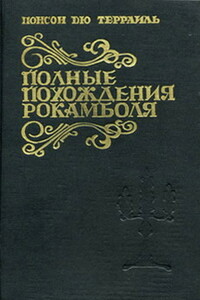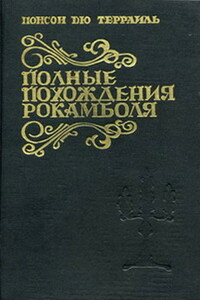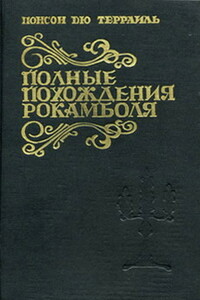Кладбищенские истории | страница 16
Время, между тем, на месте не стояло. До полуночи оставалось всего ничего.
Встав перед стеной, капитан сосредоточенно потер губу, обслюнявил палец о зубы, сплюнул.
И вдруг слышит, точь-в-точь как вчера: «Губы-раз, зубы-два, помогай разрыв-трава…» И дальше еще что-то, но уже не разобрать.
— Дарья Николавна! — заорал Чухчев. — Дарьюшка! Здесь я! Давай сюда!
Стену заволокло паром, закружилась белесая муть, и вот уже стояла перед капитаном мертвая помещица, тянула к нему голые толстые руки.
Героический был мужчина этот Тютчев, подумал капитан, потому что и в молодом своем виде была Салтычиха, прямо сказать, не Мерилин Монро.
— Николушка, лапушка! — прошелестело привидение. — Вернулся! Уж и не чаяла!
Видя, что дело идет к объятьям, Чухчев поневоле зажмурился, но ничего особо страшного не случилось — только прошел озноб по плечам да похолодило щеку.
— Я на кладбище был, — сказал Николай, чтобы перевести встречу в конструктивное русло. — Венок на могилу возложил.
— Там, на погосте, костяк один, — равнодушно ответила покойница, подтверждая его версию. — А мне самой, когда померла, велено тут состоять, при месте земного наказания.
— Чего там бывает-то, после смерти? — спросил Чухчев, прикидывая, как бы половчее повернуть к главному — про клад.
Салтычиха удивилась:
— Нешто не знаешь? Иль у тебя не так было? Хотя что ж стеклу тебя не пущать, ты-то не лютовал, душу грехом не тяжелил. Все бремена на одну меня легли…
Последнее было сказано с явной обидой, от призрака во все стороны брызнули маленькие багровые искры, и Николай поскорей сунул левую руку за пазуху, где иконка, а правую в карман, где ПМ с серебряными пулями.
Но видение уже успокоилось, гнев сменился печалью.
— Не виноват ты, Николушка. Все мущины в любви трусы, душу свою берегут, прячут. Баба если уж полюбила, ей всё нипочем, душа — не душа. Я про свою ни разу и не вспомнила, расплаты не устрашилась. Одного лишь сердца слушалась. А как отмучилась, тело свое постылое, безобразное покинула, за всё ответить пришлось. Ты, когда помер, через черную трубу летел?
— Само собой, — осторожно кивнул Чухчев.
— А свет потом узрел?
— Ну.
— И как? Поди, на волю вылетел? — Салтычиха вздохнула. — А моя душа не сумела, больно в ней тяготы много. Гляжу — приволье, всё зеленое и голубое, и свет радужный по-над плёсом. Так хочется туда, так хочется! И вижу, уж гуляют там всякие, и звуки сладкие несутся! Разлетелася, разогналася — да с размаху об стекло. Не могу дальше. Бьюся, как муха на окне, а пути мне нет. Мимо другие души пролетают, кто тихо, кто с дребезжанием, иные тоже сначала поколотятся, поплачут — и пустит их стекло, а меня никак… Потом голос слышу. Шармантный такой, только шибко грустный. «Не пройдешь, дочка, и не думай. Душа у тебя тяжелая. Покаяться надо». Я кричу: «Пусти, дедушко, не в чем мне каяться! Ты людей любви учил, так я, может, сильней всех на свете любила, души своей заради любви не пощадила! Пусти погулять по шелковой траве-мураве!» «Я-то что, говорит, это ты сама себя не пускаешь. Покаяться надо, Дарьюшка». Я ему: «Ну каюся, ка-юся! Отворяй скорей окошко! Буду там, на приволье, моего Николушку поджидать!» Только не было мне на это никакого ответа. Долго не было. Потом слышу: «Через сто лет приходи. Раньше никак нельзя». И сызнова я в свою яму попала. Вход уж успели камнем заложить, чтоб темница кровопивной Салтычихи Божий мир не поганила. Знаешь ли ты, друг мой сердешный, что такое сто лет в каменном мешке сидеть? Да без сонной отрады, без пятнышка света? Каждый час, каждая минутка вечностью предстают. Одним спасалася — о тебе, ангел мой, думала. Всё терзалася, любил ты меня иль нет? Ну хоть недолго, хоть денек? Сто лет об стены билась, всё повторяла: любил — не любил. А как миновал назначенный срок, на самом исходе дня, в полночь, свод расступился, и полетела я над крышами-куполами, над башнями-облаками. И вижу трубу, и свет в ней, и по ту сторону чудесный луг. Но снова не попустило стекло проклятое. А Голос сказал: «За многая любовь и многая мука — многое же и простится. Но не покаялась ты. Через сто лет приходи». Сызнова я тут очутилася. Опять твержу: любил — не любил, любил — не любил. Только вторые сто лет еще горше первых оказались. Сейчас в третий раз полечу, счастье спытаю, но ныне не страшуся. Раз тебя, голубчика моего, узрела, значит, пустят меня!