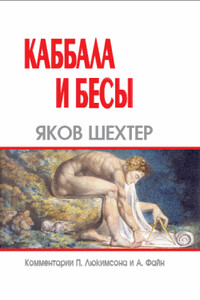Еврейская Атлантида: тайна потерянных колен | страница 27
В Манипуре, у «людей долины», жрецов не было – они более христианизированы и находятся скорее под влиянием индийских традиций.
У Михаэля не было ни малейших сомнений в том, что он, как и все его племя, принадлежит к евреям. Когда он родился («это было в начале 70-х годов – у нас не было документов, и точные даты никого не интересовали»), ему, так же как и другим мальчикам в Мизораме, прокололи ухо. В то время здесь еще не было ни синагоги, ни еврейского центра. Первая синагога появилась, когда Михаэлю было шесть-семь лет.
Михаэль Бней-Менаше
Михаэль помнит, что его отец обожал историю и много ему рассказывал. Рассказы были связаны в основном с евреями, их праотцами и Торой. Когда он подрос, отец отправил его в синагогу «работать хазаном». Здесь впервые возникла мысль о поездке в Израиль и, возможно, о репатриации.
К этому времени процесс перехода в иудаизм становился все более интенсивным. Это не был резкий и болезненный разрыв с уже укоренившимся квазихристианским укладом – все происходило плавно и постепенно.
Сперва семья, начавшая возвращение к еврейству, переносила выходной день с воскресенья на субботу и начинала соблюдать еврейские праздники. При этом она могла не отказываться от праздников христианских, и все эти традиции (уникальный случай в истории сосуществования двух религий!) вполне благополучно уживались друг с другом. Более того, считая себя евреями, Бней-Менаше продолжали верить в Христа и читали Новый Завет.
Многие на этом промежуточном этапе так и остались – и этот дуализм не считался ни постыдным, ни странным.
Другие все же на своем пути к еврейству продвигались дальше и, в конце концов, полностью освобождались от христианских обрядов.
Недоброжелательства, а тем более дискриминации по отношению к себе и своей семье Михаэль не помнит – хотя они принадлежали к ощутимому меньшинству.
«И дети, и взрослые спорили друг с другом, но драк, насилия никогда не было. Хотя мы не были такими уж мирными и терпимыми. В отношении других народов, окружавших нас, все было иначе. Мы не допускали их к себе, за это они не принимали нас. Бывало, что возникали конфликты. Но друг к другу мы относились по-братски», – вспоминает Михаэль.
Если ссоры все же случались, то главы кланов старались примирить ссорящихся как можно быстрее. Отца одного из семейств, как и предписывает в подобных случаях восточная традиция, приглашали в гости, и здесь, за столом, уставленным яствами, между двумя мужчинами начиналась плавная, неторопливая беседа. После чего ссоры и обиды забывались, а порядок восстанавливался сам собой.