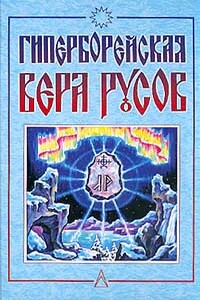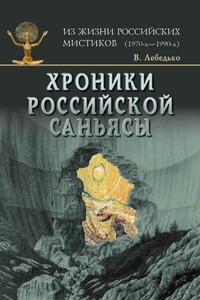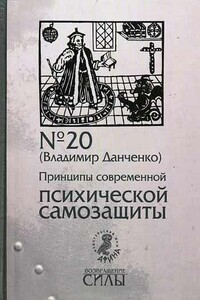Богослов, который сказал о Боге лишь одно слово | страница 34
Все было более-менее хорошо, но тут у нетерпеливого богослова Маркелла взыграло благое намерение утвердить Единосущность немедленно и эффектно, посрамив противников Афанасия. И вот какое он предложил богословие: Сын – это что-то вроде экспансии, «расширения» Отца. Так точно и Святой Дух, по Маркеллу, это нечто вроде экспансии, «расширения» Сына. Видите, говорит Маркелл, хоть Ипостаси – три, но Сущность у Них – одна. Что и требовалось доказать!
Народ ходил за Маркеллом толпами, но Константин Великий был в ужасе. Лекарство, которое предлагал этот якобы последователь Афанасия, оказывалось немногим лучше самой болезни. Учение Маркелла полагало в Троице постадийность, а никакой стадийности, как и никакой, например, полярности в Троице быть не может. Ведь это есть определения пространства и времени (пусть даже и умозрительных). Но Троица превыше времени и пространства. Она есть Вечность. Она сама сотворяет и определяет их, а не они сотворяют и определяют Ее.
Итак, Маркелл побивал земные представления ариан о Небесном земными же о нем представлениями, хоть и более изощренными. Поэтому его толкование тайны Пресвятой Троицы также не могло подвести верующего к постижению ее, но лишь уводило прочь. К тому же, из учения Маркелла следовало, что, будто бы, Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына также. Et Filio qui. То есть, если бы не решительные действия Константина, из Маркелова учения вылупился бы католицизм еще за шесть веков до рождения римского папы Льва IX и кардинала Гумберта.
Наверное, Константин, видя это, рассуждал следующим образом. Епископ Афанасий отстаивает Единосущность и весь на этом сосредоточен. Он может, в пылу полемики, ухватиться за построения друга своего Маркелла, как за случайно подвернувшееся оружие. Тогда за ересью Маркелла, голос которой пока еще едва слышен, встанет авторитет самого Афанасия Великого!
Понимает ли Афанасий ущербность построения Маркелла? Ум Афанасия проницателен, однако человек предельно измотан происками завистников и врагов. Они неустанно его поливают грязью. (Святого Афанасия лживо обвиняли во блуде, стяжательстве и даже в убийстве.) Что, если в таком состоянии душевном епископ опрометчиво решит: «сейчас главное отстоять Единосущность любой ценой, а после уж будет время и разобраться в тонкостях»? Тогда он собственными руками погубит дело всей своей жизни.
Единственный способ его уберечь от этого – рассуждал, видимо, Константин, – так это выслать епископа куда-то как можно дальше, где голос его не будет никому слышен. В пользу вероятности такой мотивации говорит факт, что Афанасий, хотя и не соглашаясь, ни разу не возразил против нелепого построения Маркелла. Читатель может сказать: допустим, подобную мотивацию Константина можно счесть вероятной. Но ведь – и только. Как знать, чем именно руководствовался император на самом деле? Быть может, это все-таки был каприз? А может, Константин просто поверил кому-либо из клеветников-обвинителей Афанасия?