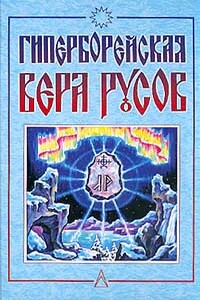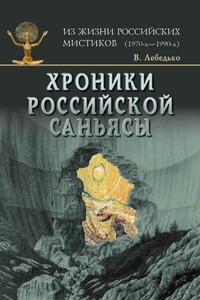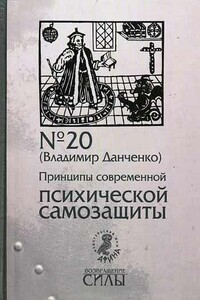Богослов, который сказал о Боге лишь одно слово | страница 33
Похоже, настоящим виновником ссылки Афанасия оказался тот, кто менее всего ему этого желал. А именно – пламенный сторонник Единосущности, личный друг Афанасия, смелый и амбициозный богослов Маркелл Анкирский.
А.В. Карташев замечает, что богословская система Маркелла окончательно сложилась в 335 году, то есть именно в том, когда Афанасий Великий отправлен был в далекое захолустье. Однако историк церкви никак не связывает между собой два этих события.
А стоило бы связать. Почему? Для пояснения этого обратим более пристальное внимание на характер богословских дискуссий времени.
Озлобленные поражением на соборе ариане в то время спорили с Афанасием и другими православными, например, так: «Сын, по определению, не может быть единосущен Отцу. Если он единосущен Отцу, то это получается не Сын уж Ему, а Брат»!
У Афанасия, Константина и вообще любого сколь-нибудь искушенного в богословии подобный «аргумент» мог вызывать разве улыбку. Высокие богословские метафоры «Отец» и «Сын» не содержат, конечно же, смысла земного родства по плоти. Троичное богословие православного христианства и, ранее, православного же (Правь славили) ведизма как раз и пытается приоткрыть сознанию верующего тайну свободы от диктатуры земных понятий. То есть, иными словами, расширить горизонты сознания за пределы Яви и даже Нави: позволить заглянуть в саму Правь (Истину). «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (Ин 8:32).
Однако «среднестатистический» христианин, вставший на путь недавно, – как правило, представляет себе такую Истину и Свободу довольно смутно. Ему бы чего попроще. Поэтому для прозелита нередко бывает более привлекателен ересеначальник, нежели добрый пастырь.
Обыденный рассудок ведь склонен обзывать «заумью» любое, что не укладывается в его прокрустово ложе. Он требует, как и ныне, чтобы о любой высокой материи говорилось ему «чисто конкретно». Причем ему невдомек, что величайшая из всех Тайна постигается лишь в молчании. Слова же нужны затем, чтобы, подобранные тончайшим образом, однажды верующего к этому святому молчанию подвести[56]. Конечно, чтобы наступило это «однажды», многажды предстоит верующему погружаться в тишину духовного созерцания, чему помощниками пост и молитва.
Итак, толпы арианствующих профанов наседали, тогда как авторитет Афанасия и Константина Великих – как и авторитет собора – их сдерживал. Этим выигрывалось время, необходимое, чтобы естественным образом принялась в умах идея Единосущности. Массовое сознание должно было до нее, что называется, дозреть.