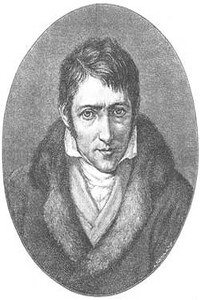Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность | страница 59
На основании этих и подобных выражений о значении добрых дел как фактора спасения противники Лютера с самого начала не переставали обвинять его в прямом отрицании необходимости добрых дел как излишних для христианина, оправданного верой в Христа. По существу подобные обвинения, конечно, были неосновательны. И в проповедях, и в сочинениях Лютер не перестает повторять, что добрые дела составляют необходимую принадлежность истинно христианской жизни как неизбежное следствие веры. “Нельзя сказать, – поясняет он в одном месте свою мысль, – солнцу: ты должно светить грушевому дереву, ты должно родить только груши, а не другие плоды. Все это делается само собою, по самой природе вещей. Точно так же нельзя предписывать вере соединяться с добрыми делами, ибо истинная вера не может, по сущности своей, не сказываться в праведной жизни”.
Нетрудно, однако, понять, что на практике подобное учение должно было часто быть истолковываемо в самом пагубном для нравственности смысле. Этому содействовал и сам реформатор, который в увлечении полемики и чтобы сильнее оттенить свое отличие от учения церкви, превратившей истинное благочестие в автоматическое исполнение внешних актов, постоянно давал своему учению самую резкую формулировку и, говоря об оправдании одной верой” (sola fide), не только напирал с особенной силой на словечко sola, но каждый раз считал нужным прибавлять: “без участия добрых дел”. Неудивительно, что грубая невежественная масса часто толковала возвещенное Лютером “новое евангелие” и “христианскую свободу” в смысле отмены обязательности нравственных предписаний, так что противники реформатора не совсем были не правы, говоря, что своим быстрым распространением реформация была обязана угождением страстям человеческим. Таково было, между прочим, глубокое убеждение герцога Георга, искренно желавшего реформы церкви, но ненавидевшего Лютера за соблазнительный характер его проповеди.
Но сам реформатор долго не понимал опасной стороны своего учения. Для него самого, как мы знаем, идея об оправдывающем действии веры была не философской доктриной, не плодом холодных умозрений; это было глубокое всепроникающее убеждение, выстраданное им в течение многих лет душевной борьбы в тиши монастырской кельи. Для него это было яркое солнце, осветившее мрак его измученной совести, якорь спасения, давший ему силу жить и уповать на жизнь в будущем. Как истинный идеалист, Лютер и других людей мерил на свой аршин. Ему казалось, что и другие, подобно ему, мучаются теми же сомнениями и бесплодными усилиями, и он счел своей обязанностью поделиться со всем светом сделанным им драгоценным открытием. Между тем большинство, как мы видели, совсем не интересовалось догматической стороной нового учения и отнеслось к нему сочувственно лишь в силу тех практических выводов, которые из него вытекали и которые для самого Лютера составляли лишь дело второстепенное. События последних лет открыли ему наконец глаза. Он потерял доверие к народу, к “Господину Всем” (Dominus Omnes), как он его называл, и, оставаясь при своих основных воззрениях, на практике мало-помалу отказался почти от всех логических выводов, которые вытекали из них. Эта перемена сказалась прежде всего при решении вопроса о том, на каких началах должно быть основано новое церковное устройство. Судя по “Посланию к дворянству” и некоторым позднейшим сочинениям, следовало ожидать, что новая церковь будет воздвигнута на демократическом принципе всеобщего священства. И действительно, исходя из этой идеи, Филипп Гессенский в октябре 1526 года пригласил в Гамбург земское духовенство, дворян и горожан, которые и выработали проект нового церковного устройства; по этому проекту все христиане, примкнувшие к новому учению, должны были добровольно записаться в члены известной евангелической общины, которая на своих собраниях могла сама выбирать своих духовных пастырей и епископов и затем высылать своих духовных, равно как и светских делегатов на ежегодные синоды для решения спорных дел. Но сам Лютер теперь смотрел на дело иначе. Отдать в руки народа избрание духовенства значило открыть широкий простор проповеди всевозможных сектантов, “фантазеров” (Schwarmgeister), как он их называл. Точно так же, ввиду теперешней непопулярности реформатора, можно было ожидать, что многие из простого народа не захотят больше иметь дело с евангелическими проповедниками и предпочтут остаться при своих старых католических священниках и “ужасах католического идолопоклонства”. А по отношению к католикам Лютер уже давно отказался от принципа терпимости и свободы совести. Поэтому он решил, что назначение новых проповедников должно принадлежать светским властям. В 1526 году он так писал об этом курфюрсту саксонскому: