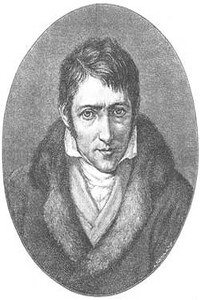Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность | страница 58
Не удивительно, что под влиянием горьких разочарований, причиненных реформатору революцией и успехами сектантства, этот врожденный консерватизм значительно усилился, заставляя его по возможности удерживать из старых порядков все, что только прямо не противоречило его учению, да и самое учение значительно смягчил в применении к народу.
Чтобы понять особенности второго периода преобразовательной деятельности Лютера, нам придется остановиться на догматической стороне его учения, которая, как известно, всегда была у него на первом плане и в которой в одно и то же время вся сила и вся слабость религиозного реформатора.
Исходной точкой всей догматики Лютера, как мы уже не раз говорили, является учение его об оправдании, находящееся в связи с христианским догматом о первородном грехе. Человеческая природа, – учит христианство, – благодаря грехопадению Адама испортилась: человек родится в грехе, с наклонностью к греху; его разум и воля не в силах возвести его на высоту, утраченную первым человеком. Для спасения человечества и явился Иисус Христос, искупивший своею крестною смертью первородный грех и открывший таким образом человечеству возможность спасения. Но какими путями достигнуть спасения? В западной церкви существовали два решения вопроса: одно – выразившееся в учении Пелагия, систематически развитом и приведенном в научную систему схоластиками; другое – проповедуемое святым Августином. Первое, проникнутое рационализмом языческой философии древних, ставило нравственное совершенство человека в зависимость от усилий безгранично свободной воли, и дела милосердия и самоотвержения считало необходимым условием спасения, хотя бы они исполнялись не с любовью, а только наружно, для исполнения закона. Второе, к которому примкнул Лютер, ставило на первый план веру, понимаемую не в смысле уверенности в бытии Божием, а в смысле убеждения, что крестная смерть Спасителя несомненно спасает нас от гибели. Но в учении Лютера это воззрение Августина получило еще более резкую формулировку. Сущность его такова: оправдание человека совершается одной верой в милосердие Божие, которое приобщает человека к заслуге Христовой, без участия его собственных дел. Соблюдение заповедей остается непременной обязанностью христианина, но само по себе, без веры, не имеет никакого значения в деле спасения. Добрые дела необходимы, но не как путь к вечной жизни, а как средство испытания веры, как признак очищенного сердца. Вера покрывает всякий грех, как бы сильно он ни оскорблял величие Божие, но грех со стороны верующего может быть только минутным падением, ибо “нет возможности, чтобы вера могла пребывать без многих постоянных и великих дел благочестия; с другой стороны, если бы можно было, сохраняя веру неприкосновенной, совершить какое-либо преступное дело, оно не было бы грехом”.