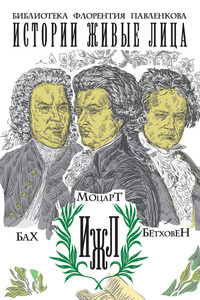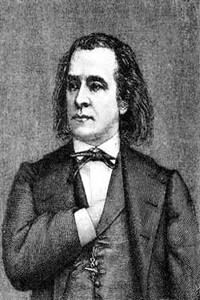Рихард Вагнер. Его жизнь и музыкальная деятельность | страница 38
Третий акт происходит в Бретани, перед замком Тристана. Тристан лежит распростертый на грубом ложе, без всяких признаков жизни. Около него в раздумье сидит его верный оруженосец Курвенал. Забота изображается на лице его: рыцарь, видимо, умирает, но перед смертью ему хочется еще раз увидеть Изольду. Курвенал уж давно известил принцессу, а ее все нет и нет... Не видать в море желанного паруса.
Но вот пробуждается раненый герой. Ему уже недолго жить, уже наступает агония, и вот начинается прерывистый, последний монолог его.
– Курвенал... корабль... Изольда... О! разве ты не видишь его? Вон он близится по равнине вод, среди белых гребней валов; вон она – нежная, сияющая, прекрасная!.. О Изольда! Как ты хороша! Ты видишь, Курвенал?.. Беги скорее! Корабль, корабль, корабль Изольды! Ты видишь? Ты должен видеть!
О вещая зоркость любящего сердца! В море еще ничего не видно. Но внезапно на горизонте действительно показывается парус. Корабль приближается; он летит, все паруса поставлены. На вершине мачты трепещет знакомый флаг. уж близко... Корабль входит в бухту, и Курвенал бежит встречать Изольду.
Тристан поднимается на ноги; смерть уже видна в его лице. Коснеющим языком он лепечет: “Она здесь, она пришла!” Он шатается, делает несколько шагов вперед и протягивает руки... В эту минуту – вся растерянная – вбегает Изольда.
– Тристан! – И она схватывает его в объятия, но он выскальзывает из ее рук и опускается на землю. Потухающий взгляд его еще раз останавливается на возлюбленной.
– Изольда! – И рыцарь умирает. Изольда падает без чувств на труп возлюбленного.
Пьеса кончается смертью героини, которая и не могла, и не хотела пережить любимого человека. Жизнь поставила слишком много препятствий их любви, они не могли жить общей жизнью, и оба они так желали умереть. В этой тенденции также нельзя не видеть влияния идей Шопенгауэра. Никакого примиряющего начала в пьесе не проведено: это – чистая философия отчаяния.
Передавая здесь прозой содержание “Тристана и Изольды”, мы, конечно, не рассчитываем передать читателю тех поистине поэтических впечатлений, какие он мог бы вынести только из залы театра. Музыка, сценические эффекты – все пропадает в нашей прозе, и этот голый остов драмы мы даем лишь для того, чтобы читатель мог хоть догадаться о поэзии, разлитой в “Тристане и Изольде”.
Изложив таким образом свои философско-поэтические идеи, имея в портфеле новую, совершенно оконченную оперу, Вагнер столкнулся с вопросом очень прозаического свойства: на какой сцене увидит свет его “Тристан и Изольда”? Ах, сколько уж раз приходилось Вагнеру решать этот тяжелый вопрос; а теперь опять предстояли все мытарства, сопряженные с постановкой оперы на сцене. Прежде всего Вагнер обратился в Карлсруэ; по его соображениям, там было бы всего удобнее пристроить оперу