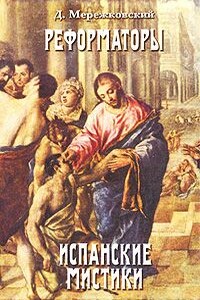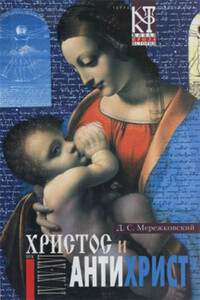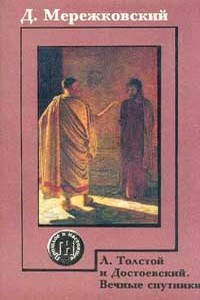Лютер | страница 38
Сколько бы Лютер ни закрывал глаза, он видел то, что за два века до него уже и Данте увидел: логовом своим сделала Римскую Церковь – то место, «где каждый день продается Христос», – «древняя Волчица (antiqua lupa)», ненасытная Алчность (Cupidigia).
С большим правом мог бы сказать апостол Петр о папах Лютеровых дней, Александре Шестом и Юлии Втором то, что говорят у Данте в Раю о папе Бонифации Восьмом:
Parad, XXII, 2I – 24.
То, что ужасало Лютера только в чудовищных снах – предвкушение ада, – совершалось наяву, при свете дня, перед лицом христианского человечества, здесь, в Риме, где люди поклонялись Богу-Диаволу.
На возвратном пути в Германию, зайдя в Зальцбурге к духовному отцу своему, Иоганну Штаупицу, брат Мартин рассказал ему все, что увидел и узнал в Риме. Штаупиц, любивший его больше, чем с отеческой, – с материнской нежностью, понял, как ему тяжело; но понял также, что покой ему не может дать никто, кроме Бога. Взяв его за руку молча, долго смотрел на него с тихою ласкою, с какою мать смотрит на больного ребенка, и наконец сказал: «Сын мой, потерпи немного. Ничего в мире не остается безнаказанным. Не минует Божья кара и этих злодеев…» И еще, помолчав, прибавил: «Сохранилось в самом Риме от древних веков дошедшее пророчество: „Все это рушится (athleta ekeina), когда некий монах Августинова братства восстанет на Рим“.[150]
Вовсе не думая о Лютере, Штаупиц вспомнил это пророчество; и Лютер слушал его, не думая о себе. Но когда пророчество исполнилось, то поняли оба, кто этот монах Августинова братства, «восставший» на Рим.
8
Месяца четыре продолжалось паломничество Лютера в Рим. Но, только что вернувшись в Эрфуртскую обитель, вошел он в келью свою, как показалось ему, что он из нее никогда не выходил, и снова начал пытать его тот же палач, тою же пыткой, как четыре месяца назад. «Я осужден, проклят Богом», – эта мысль жгла его тем же огнем неугасимым, и тот же ад зиял у него под ногами.[151]
«Муки страха у меня были такие… что кажется, если бы они еще только немного продлились, душа моя уничтожилась бы».[152] «Страх осуждения нападал на него иногда с такою силой, что он близок был к смерти», – вспоминает, вероятно, по его же собственным признаниям, ближайший друг его и ученик, Меланхтон.