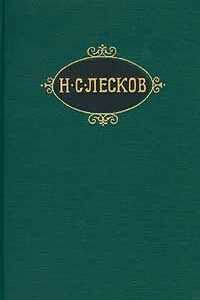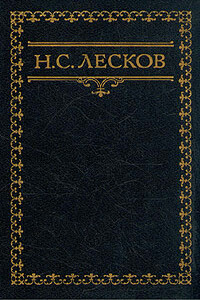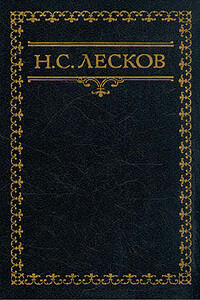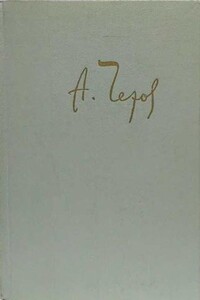Чающие движения воды | страница 38
– Я все это лучше знаю! Сто тысяч раз лучше знаю! – твердил он, с гордым презрением отворачиваясь от какого-нибудь препарата, который ему хотел объяснить кто-нибудь из товарищей.
– Да говорят же вам, что я еще как материно молоко сосал, так я знал это! – кричал он, замечая, что кто-нибудь сомневался в его знании.
Когда такие выходки Пуговкина возбуждали всеобщий невольный смех, он краснел, но не каялся, а, стараясь отшутиться, говорил:
– Постойте-ка смеяться-то, потому что все это еще не очень-то смешно; а я еще сто сорок семь тысяч раз смешней этого вам могу сказать.
При такой выходке все присутствовавшие обыкновенно смеялись еще более, и Пуговкин, радуясь, что ему никто не противоречит, уходил спокойно, унося за собою всякий день все более и более укреплявшуюся репутацию шута. Так лжеумствуя и фантазируя, он едва-едва кое-как поймал степень лекаря и получил место городового врача в Старом Городе. В Старом Городе был уездный лекарь, врач очень сведущий и хороший практик, перед которым неопытный и хвастливый Пуговкин во всяком другом месте был бы ничто; но Старый Город опроверг все эти предположения насчет своих отношений к Пуговкину. Он приютил его, дал ему хлеба и соли и добрую хатку в зеленом удольи Гремучего верха.
Сила, обратившая к Пуговкину сердца города, заключалась, во-первых, в открытости его доброго нрава, в его всегдашней веселой беспечности, в его русском происхождении, а также в тупом невежестве Старого Города и в его ненависти к немцам. А ко всему этому, как выражался Пизонский, – и Господь помогал Ивану Ильичу на сиротскую долю.
Действительно, не успел Пуговкин приехать в Старый Город, которому Пизонский давно уже толковал о скором прибытии «братца», как для него очистилась ступень к славе и известности. Иван Ильич Пуговкин подъезжал к Старому Городу в то время, как там умирала головина теща, женщина старая, сырая, богомольная и обжорливая. Давно обреченная на смерть в случае диетической невоздержности, она разговелась жирной ветчиной и почувствовала приближение своего смертного часа. Семейство, забыв свою староверческую ненависть к медицине, послало, против воли умирающей, за лекарем, немцем. Пришел немец, посмотрел на больную, долго щупал ее живот и стал аскультировать. Задыхавшаяся старуха злилась, что нарушают тишину ее мирной кончины. С грозным недоумением она смотрела, как лекарь ползает своею щекою по ее груди и все собиралась с силами сказать ему крепкое слово; но силы этой не было, и старуха молчала. Да не суждено, однако, было нетерпеливой старухе отойти от скандала. Желая заставить больную поглубже вздохнуть, немец уложил на ее груди свою голову и сказал: