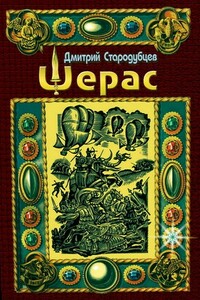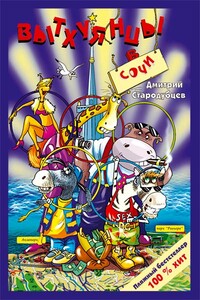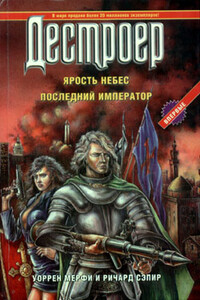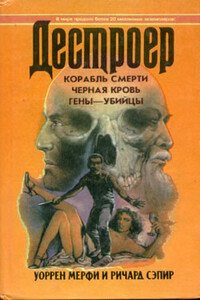Сильвин из Сильфона | страница 70
Сантьяго Грин-Грим
Герман не смог договориться с Сильвином-штрейкбре-хером ни в тот день, ни на следующий, ни спустя одиннадцать дней. Все это время бедный одноглазый крысенок Сильвин, забившись в свою трухлявую пещерку, нестерпимо, почти маниакально страдал, однако, будучи совершенно слаб телом, выказывал невероятно тугоплавкую силу духа, а посему был непреклонен в своих убеждениях и более не желал потакать варварам, изуверам, почему-то решившим, что Сильфон — их безраздельная вотчина, а все жители Сильфона — их крепостные. Он ежесекундно испытывал жгучее желание увидеть Мармеладку хотя бы одним глазком, он с радостью отдал бы все, чтобы еще раз проскользить пальцем по длинной оголенной ложбинке-трассе ее позвоночника, соединяющей карамельную шею с пигментно-черным крестцом, за которым запретно следовали небольшие туго прижатые друг к другу ягодички, сунуть нос в ее волосы, где было больше всего мармеладного аромата, или вылизать ее бритую подмышку, что он находил особым десертным лакомством, не говоря уже о самом беспредельном: утомительном хаотичном мармеладном поцелуе. Еще он мечтал вновь окунуться в ее душу, пусть жалкую, развратную, но родственную, до ощущения совершаемого инцеста, — он ее, эту душу, понимал, прощал (Я прощаю Тебе Твои грехи, а сам безгрешен) и принимал такой, какая она есть, без оговорок. Сильвин знал, что как только он удовлетворит любопытство Германа, Мармеладка вернется, и испытывал неодолимое искушение пожертвовать своим даром. Но помогать убийце он не мог и лишь в бессилии, сто, тысячу раз кряду повторял свое каббалистическое заклинание: Я Твой Любовник, а Ты моя Любовница… Но от этого ничего не менялось.
Сумерки сгущались. Лохматые тени метались по стенам комнат. Коварный Герман точил ножи, наверняка затевая нешуточную карательную операцию. Сильвин ощущал себя будущей свиной тушей, которую сначала подвесят на крюк в холодильной камере, а потом разделают.
Однажды в квартире раздался звон битого стекла — кто-то кинул в окно комнаты Германа гранату, которая почему-то не взорвалась. В следующий раз во дворе, под окнами долго и молчаливо полыхал черный лакированный Мерседес Германа. Этот вспучившийся от самодовольства тонированный вельможа так уверовал в собственное превосходство, что даже сгорая заживо дотла, не унизился мольбами о помощи: так молча и стоял, пока не взорвался, гордый, непобежденный, с кровавыми пузырями последнего выдоха на губах.