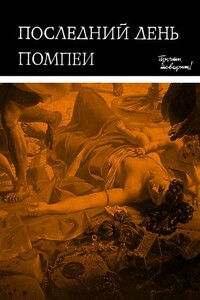Повесть о художнике Айвазовском | страница 67
Необыкновенным был этот вечер, хотя трудно было назвать вечером сумерки, полные притушенных бледно-зеленых отсветов. В Петербурге начались белые ночи.
Когда Гайвазовский спускался в гостиную, откуда раздавались голоса, он невольно задержался в библиотеке. Двери в кабинет были открыты. Там сидели Оленин, князь Владимир Федорович Одоевский — писатель, композитор, выдающийся русский музыкальный критик и один из самых преданных друзей Глинки, граф Михаил Юрьевич Виельгорский — любитель музыки и сам композитор. Вокруг них на диванах и в креслах непринужденно расположились незнакомые Гайвазовскому гости. Огня не зажигали. Комнату наполнял странный, фантастический свет белой ночи.
Гайвазовский, никем не замеченный, сел в кресло позади Оленина.
— Глинка известил меня из Новоспасского,[17] что работа над «Сусаниным» продвигается успешно, — рассказывал Виельгорский. — По возвращении в Петербург просит устроить у меня репетицию первого акта оперы.
— Когда он обещает быть здесь? — спросил Одоевский.
— Не раньше чем в конце лета или даже осенью… Не понимаю, для чего Глинка сочиняет русскую оперу, — продолжал Виельгорский, покачивая тщательно завитой головой. — Надлежит еще добиться принятия ее на сцену. Многие сторонники итальянской музыки будут интриговать против этого.
— Я близко знаю Михаила Ивановича, — медленно заговорил Одоевский. — Он давно уже мне доверился, что замыслил создание национальной оперы. «Самое важное, — говорил он, — это удачно выбрать сюжет. Во всяком случае, он безусловно будет национален. И не только сюжет, но и музыка: я хочу, чтобы мои дорогие соотечественники почувствовали бы себя тут как дома и чтобы за границей не принимали меня за самонадеянную знаменитость на манер сойки, что рядится в чужие перья».
При последних словах Виельгорский густо покраснел: все знали несколько хороших романсов Михаила Юрьевича, которые принесли ему успех у нас и за границей, но знали также и то, что Виельгорский сочиняет квартеты, симфонии и даже мечтает об опере. Сочиняя крупные вещи, он с охотою шел во след иноземной музыке и даже гордился этим. Так что слова Глинки, переданные Одоевским, Виельгорский сразу принял на свой счет и оскорбился этим.
Оленин решил вмешаться в беседу, чтобы не допустить вспышки оскорбленного самолюбия графа.
— Когда я писал свои «Рязанские русские древности» и «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян», — начал Алексей. Николаевич, — я также думал, что пора нам, русским, взяться за свое, национальное, а не искать мудрости и совершенства красоты в заморских странах, хотя знать и ценить должно все, что заслуживает восхищения.