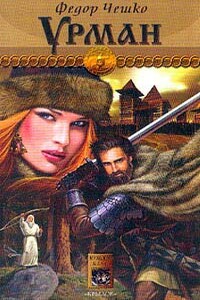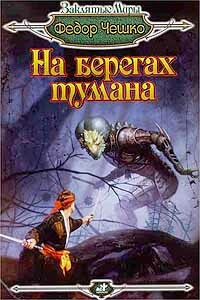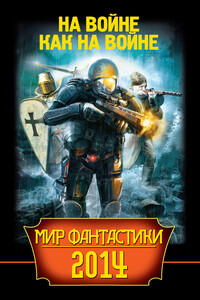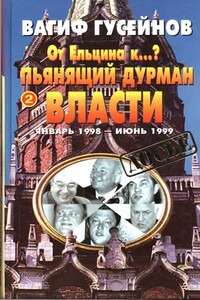Информационная война: история против историков | страница 13
По мере роста насыщенности информационного поля контроль над этим самым полем все более осложнялся. Конечно, цензура в том или ином виде возникла, небось, в тот же самый день, когда была осуществлена первая попытка обмена сведениями (если даже не прежде того). Однако постоянное увеличение количества, объема и разнообразия информационных блоков не могло не привести к фактическому кризису управления информацией даже в условиях тотальной цензуры.
Ярким примером этого кризиса может служить полулегенда начала Второй Мировой войны.
Незадолго до вторжения в Чехословакию германское командование обратило внимание на серию статей одного чешского журналиста, посвященных состоянию и дислокации частей немецкой армии. Статьи обнаруживали такую осведомленность автора, что у немцев не осталось сомнений: этот самый автор каким-то образом связан с некоей шпионской сетью, успешно действующей на территории Рейха. Журналиста выкрали, принялись трясти из него имена-явки-пароли… Требуемое упорно не вытрясалось, но трясомый при этом вел себя не как твердокаменный герой, а как человек, напрочь не могущий сообразить, чего от него хотят. Когда же, наконец, сообразил, то, несмотря на трагичность ситуации, не удержался от смеха. И потребовал себе на ночь в камеру клей, ножницы и бумагу. А главное – подборку свежих немецких газет. Нет, не центральных. Периферийных. Результат его ночного бдения просто ужаснул следователей. Вылавливая из прессы самые, казалось бы, незначительные штришки (присутствие такого-то генерала на провинциальной свадьбе; благотворительный вечер, учиненный в таком-то городке офицерами-летчиками; список членов президиума на какой-то мелкой партийной конференции и т. д.) журналист составил весьма точную сводку передислокации частей вермахта за последнюю неделю.
Возможно, это всего лишь легенда. Однако подразделения по высеиванию жемчужных зерен из прессы основного, вероятного, потенциального и прочих разновидностей противника – обязательный атрибут современной разведки (во всяком случае, поверить в это гораздо легче, нежели в обратное).
Несостоятельность тотальной цензуры как способа ограничения сформировавшегося информационного поля в полной мере проявили советские времена. Помните такую народную поговорку: «Есть обычай на Руси на ночь слушать Би-Би-Си»? И никакие глушильные станции (которые народ любовно-ласкательно именовал «свинья в эфире») этот обычай не поломали. Хуже того, цензура оказала самим же цензорам медвежью услугу. Ведь запретный плод, как известно, сладок. Опять же, еле разборчивый шепоток из приглушенного приемника давал советскому человеку возможность без особого риска (ведь за «Голос Америки» все-таки не расстреливали и не сажали) потешить душу ощущением собственного фрондерства, приобщения к свободомыслию. Таким образом, борьба с забугорной прессой ей же создавала дополнительную и, мягко говоря, отнюдь не всегда заслуженную рекламу.