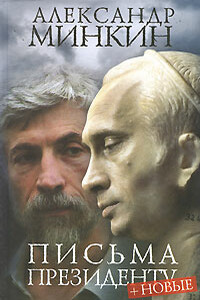Нежная душа | страница 16
«– А это кто?
– Генерал-майор Клавдий Александрович Кома-ровский-Эшаппар де Бионкур, командир лейб-гвардии уланского Его Величества полка.
– Какие же роли он играл?
– Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах… Ну, натурально, манеры у нас, сами понимаете. А он всё насквозь знал, даме ли платок, налить ли вина, по-французски говорил идеально, лучше французов».
«Манеры у нас, сами понимаете…» Разговор происходит в 1920-х, но генерал поступил в театр при царе. Даже тогда надо было показывать актерам, как подают платок аристократы.
Сегодня, зайдя в наш театр (большой ли, маленький ли), русские бояре не узнали бы себя. Так Иван Грозный не узнал себя в трусливом управдоме. Ведь и мы не узнаём себя (русских, советских) в тупых неуклюжих идиотах из голливудских фильмов.
Почти сто лет не было дворян, купцов. Они остались в учебниках – раз и навсегда утвержденный школьный лубок. Купец – жадный, жестокий, грубый самодур Дикой (душевные движения ему неведомы, брак по любви отвергает). Дворянка – жеманная, лицемерная, глупая, пустая кукла.
Купцов и дворян не стало, а лакеи остались. И обо всех судили по себе – по-лакейски. Эти лакеи, желая угодить новым господам (тоже лакеям), изображали уничтоженных (отмененных) глумливо, пошло, карикатурно. И от этих трактовок – а с 1930-х они уже вбивались с детсада – не был свободен никто.
И купец в советском театре всегда был Дикой и никогда Третьяков (чья галерея).
До сих пор пользуемся: Боткинская больница, Морозовская (и много еще) построены купцами для бедных, а не VIP-клубы и фитнес-центры. Не всякий царь столько построил для людей.
Советская власть кончилась в 1991-м. Вернулся капитализм. А дворяне и купцы? Они же не ждали за кулисами команды «на сцену!». Они умерли. И культура их умерла.
Язык остался почти русский. Но понятия… Само слово «понятия» сто лет назад относилось к чести и справедливости, а теперь к грабежу и убийству.
В 1980 году Юрий Лотман написал «Комментарий к „Евгению Онегину“ – пособие для учителя». В начале сказано:
«Объяснять то, что читателю и так понятно, означает, во-первых, бесполезно увеличивать объем книги, а во-вторых, оскорблять читателя уничижительным представлением о его литературном кругозоре. Взрослому человеку и специалисту читать объяснения, рассчитанные на школьника пятого класса, бесполезно и обидно».
Предупредив, что понятное объяснять не будет, Лотман продолжает:
«Большая группа лексически непонятных современному читателю слов в „Евгении Онегине“ относится к предметам и явлениям быта как вещественного (бытовые предметы, одежда, еда, вино и пр.), так и нравственного (понятия чести)».