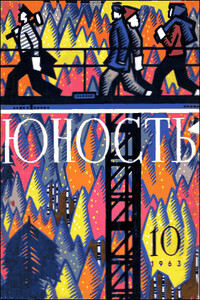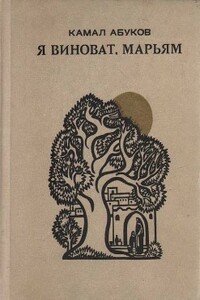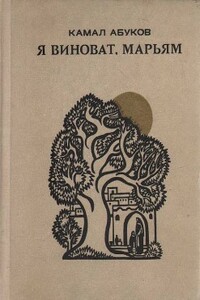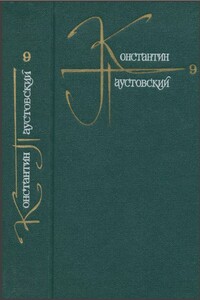Второе апреля | страница 46
— Кто бандюга? Я бандюга? — Схватил увесистый гаечный ключ и пошел на Малышева. — Беги, шкура, изувечу!
А Малышев понапружился, схватил его своими железными ручищами.
— Брось, дурак, ключ!
И окрутил, поломал, а потом сказал, переводя дыхание:
— Теперь давай отсюда к чертовой матери!
И Микола ушел. Первое время он еще кипел, бессмысленно ругался, сжимая: кулаки. Потом поостыл и огорчился: ну, с тем парнем в столовой все правильно, а чего на Малышева полез? Хороший же человек...
Ладно, все они хорошие...
А вечером прибежал в общежитие один парень и орет:
— Все! Встретил Тольку-милиционера. Все, — говорит. — закрылось Миколино дело. Заступились, — говорит, — за него влиятельные люди.
Кто заступился? Козлов? Малышев? Может, оба? Заступились, видите ли...
Ладно... Спасибочки. Но поздно. Миколе уж никак нельзя оставаться на Мироновке после всего, что было. У него есть совесть, как это ни странно.
До полуночи он шатался по степи. Смотрел на причудливые сплетения огней Мироновки. И почему-то трудно было дышать, и во рту был противный вкус, как после пьянки.
Ладно, он уедет на великую стройку коммунизма — на Куйбышевскую ГЭС или на Главный Туркменский канал, а там видно будет.
Он пошел к Козлову за документами. Тот поморщился и сказал:
— Уезжать тебе нельзя. Будешь последняя сволочь, если уедешь.
Все-таки к Малышеву Микола не вернулся. Стал работать с Василием Дубиной. Тот сам его нашел.
— Будешь со мной, — говорит, — если не имеешь возражений.
Оказался чудный дядька. Главное, держался по-товарищески.
— Заходи, — говорит, — пожалуйста, ко мне домой обедать, покушай домашнего.
Никогда никто Миколу так в гости не приглашал. Честно говоря, его вообще никак не приглашали. И он был очень тронут. Купил Мане — Василевой жене — одеколон «Эллада», сидел за обедом церемонный. И даже с маленьким Витькой, сыном своего шефа, разговаривал как с замминистром (с которым, правда, никогда не разговаривал).
Постепенно ему открылось, что эта самая Мироновка населена людьми. Он вдруг признавал их — то одного, то другого, то сразу целую компанию.
— Могу объяснить — сказал Илик. — Могу объяснить это дело... Меня все Очкариком зовут, я с детства близорукий. Но очки я долго носить не хотел. Очкариков у нас не уважали. Только в двадцать лет пришлось надеть минус четыре.
Я до этого всегда слышал: «звезды мерцают», «таинственный свет звезд» и все такое, — а смотрел на небо и видел одни пятнышки бледные. И думал, что это люди для красоты брешут про мерцание. От скуки жизни. И вот надел я очки — взрослый уже был хлопец — и увидел небо, как оно есть, увидел звезды. А мог всю жизнь не знать. Вот так я могу объяснить свое состояние. Только, может, это получится чересчур глупо, вроде как в сочинении.