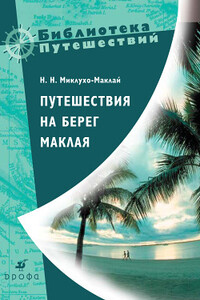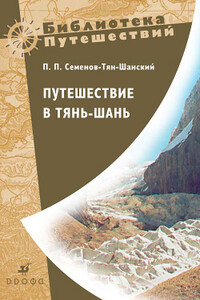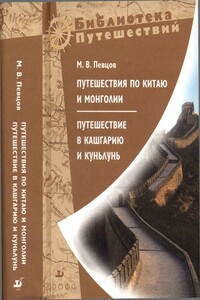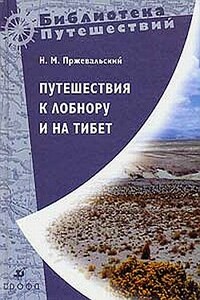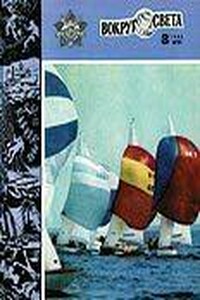Плавания вокруг света и по Северному Ледовитому океану | страница 4
В первом плавании летом 1821 года путь от Архангельска до Новой Земли занял практически две недели. В последний день июля (по старому стилю) на 71° с. ш., когда до Новой Земли оставалось менее ста миль, на пути брига встретились первые льды и плотный туман, что поначалу озадачило мореходов, тем более что Литке не имел опыта плавания во льдах; он приобретал его на ходу, а это не только сложно, но и рискованно. Судя по прокладке курсов и расстояний по карте, до невидимого за туманом берега Новой Земли оставалось всего 35 миль, хотя сам командир корабля считал, что и менее того. «Как прискорбно было мне видеть невозможность подойти к нему, находясь в столь незначительном от него расстоянии, – отметил Литке 1 августа. – Наступил уже август месяц, хотя и лучший для плавания в этих местах, но вместе и последний, а настоящее дело наше еще и не начиналось». На самом деле (даже с учетом старого стиля) наиболее благоприятное время для плавания с точки зрения ледовой обстановки было впереди, но это выяснится позднее… Разумеется, поморы обладали собственным опытом, но обращаться к служившим в экипаже Литке считал преждевременным, теряя драгоценные дни один за другим. Только 5 августа он особо отметил, что «артиллерийский унтер-офицер Смиренников, который, будучи еще крестьянином, два раза зимовал на Новой Земле… он, как и другие бывалые там люди, уверяли меня, что лед, однажды отнесенный от берега, никогда уже к нему не возвращается». Оставалось воспользоваться этим обстоятельством, – но как? Пока Литке ломал голову над этой задачей, в дело вмешалось течение, «подвинувшее» корабль к северу, так что утром 11 августа по курсу открылся низкий берег, который Литке принял за остров Междушарский. «Уцепившись» за этот ориентир, теперь можно было приступить к решению основной задачи, поставленной морским министром. Не останавливаясь на дальнейших деталях плавания, лишь отметим, что 22 и 23 августа в широте, близкой к 73° с. ш., Литке наблюдал резкую смену рельефа прибрежной полосы, отметив одновременно с улучшением ледовой обстановки важный ориентир, которым оказалась «превысокая, весьма приметная гора. Куполообразная вершина ее покрыта была снегом». И тем не менее «мы были в недоумении о том, какую именно из известных частей Новой Земли имеем перед собой? Карта Государственного Адмиралтейского департамента не могла нам в этом случае дать нужного объяснения… Как к последнему способу, прибегли мы к вышеупомянутому унтер-офицеру Смиренникову… Но его показания уверили нас только, что в подобном случае на показания человека не морского совсем полагаться нельзя», окончательно расписавшись тем самым в собственном неумении использовать поморский опыт. Это настолько очевидно, что объясняет и неудачу в поисках Маточкина Шара, и скромные результаты плавания 1821 года в целом, выразившиеся в достижении 75° с. ш. и установлении ряда вершин в качестве ориентиров побережья, названных в честь известных моряков Сарычева, Головнина и некоторых других.