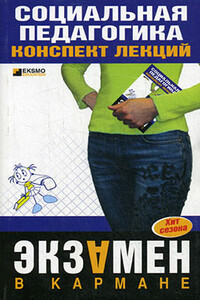История и теория религий | страница 72
Воскресная проповедь в средневековом западном христианстве, в особенности в крупных храмах, была достаточно обычным делом. При этом нормативные руководства для проповеди долгое время отсутствовали. Считалось, что пастырское слово о Боге не нуждается в риторических украшениях и что искренняя вера подскажет нужное слово. Отчасти такие взгляды поддерживались видимой простотой, композиционной «невыстроенностью» «Нагорной проповеди» или посланий апостола Павла.
В университетах на факультетах теологии обучали так называемой «тематической» проповеди, отличая ее от гомилии как проведи «свободной», безыскусной. В «тематической» проповеди требовалось по определенным логическим и риторическим правилам развивать «тему», заявленную в заглавии проповеди. «Темой» могла быть строка из Писания, похвала празднику или святому (в день памяти которого идет служба), толкование имени святого или вообще любого имени, рассуждение о событии, годовщина которого приходится на день службы, и т. д. Такие проповеди читались в храмах, т. е. были видом устной публичной торжественной речи, однако они готовились заранее, т. е. существовали и в письменной форме, и нередко впоследствии печатались – в качестве сочинений, представляющих самостоятельную богословско-публицистическую и эстетическую ценность.
«Тематическая» проповедь (ее еще называли «университетской») несколько веков ощущалась как вершина церковно-риторической учености.
Проповедь в известном смысле противостоит собственно богослужению (литургии). Если чинопоследование служб строго задано Служебником и Типиконом, то проповедь – жанр свободный, «ее ответственный, менее обязательный, и поэтому предоставляющий проповеднику возможность определенного выбора содержания и способа пастырского учительного общения с верующими (выбора, разумеется, в известных границах). Новые тенденции в конфессиональной области обычно проявляются раньше всего именно в проповеди. Достаточно сказать, что вхождение народных языков в храм начиналось с проповеди, затем разрешалось чтение отрывков из Писания на народном языке, позже – новые молитвы песнопения и только в последнюю очередь народный язык допускался в литургию.