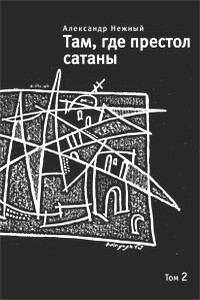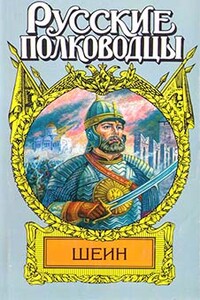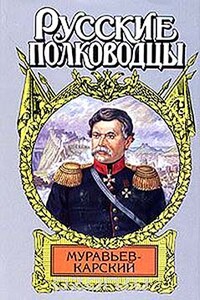Огонь над песками | страница 38
Привычка Семена Семеновича Дорожкина излагать свои соображения не вполне прямо, а как бы подходя к ним сбоку, как бы прокрадываясь к своим мыслям с самых разных сторон, по пути несколько отвлекаясь и забредая иногда в совершенно иные области, была Полторацкому хорошо известна, и он Семена Семеновича научился понимать. Под ощущением собственной бесполезности, о котором с нескрываемой болью говорил Дорожкин и о котором немного странно было слышать от этого большого, сильного человека с выпуклой грудью и мощной шеей, следовало, вероятней всего, подразумевать не только довольно напряженные личные отношения бывшего артиста с иными членами ТуркЦИКа, не упускавшими случая с пренебрежительным смехом упомянуть о прошлых занятиях Семена Семеновича (как будто было в них нечто постыдное), но и настоятельную необходимость приноровляться к жизни, угадывая при этом ее повороты. Беда людей его склада состояла в избыточном нетерпении, в стремлении перескочить через многие политические, хозяйственные и даже военные меры, порожденные исключительно стремлением приспособиться к переменчивой жизни и, приспособившись, уберечь и укрепить республику. Взгляд Дорожкина был в значительной степени взглядом туманным, взглядом мечтателя, чистого и доброго человека, подавленного противоречивыми событиями нынешней жизни. Именно Семен Семенович, недавно вернувшийся из Самарканда, потрясение повествовал Полторацкому о занятных, но весьма удручающих подробностях тамошнего житья-бытья Андрея Фролова и, рассказывая, едва не рыдал от горечи и отчаяния. Полторацкий тогда его успокаивал, втолковывая, что всякого рода истории, которые — в отсутствие Фролова — понашептали Семену Семеновичу в Самарканде, при беспристрастной проверке окажутся плодом злого эсеровского вымысла; попытался успокоить и сейчас, сказав с усмешкой:
— Небо как небо, чего ты к нему привязался. Ну, темнеет быстро, ну так это же Азия! А ты, Семен Семенович, наплел, как всегда: тут тебе и убийца, тут тебе и смерть. И врешь ты, что тебе говорят, что ты не нужен и глуп. Такого быть не может, я знаю!
— Не так прямо, конечно… Но намек был, я его понял прекрасно! — горячился Дорожкни.
— Эх, Семен! — со вздохом сказал Полторацкий. — Нетерпеливый ты человек… А нетерпение страшное дело, это я тебе точно говорю. Колесов на Бухару попер — и чудом, просто чудом ведь вылез! Тяжелое ныне время, Семен, — помолчав, тихо проговорил он. — Собраться надо… в кулак надо себя зажать. А в вас с Агаповым будто маятник какой-то ходит — то туда, то сюда. То нехорошо, это плохо… Оно и будет нехорошо, если мы — как Агапов — со стороны на все глядеть примемся и только мнение свое высказывать… Само собой ничего не совершится, ко всему руку приложить надо… и голову… И решимость самую твердую! В такое-то время колеблющийся человек, может, и есть самый опасный. Ты на него положиться готов, — а он отшатнулся. Из-за неуверенных кровь льется, Семен.