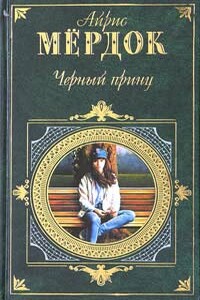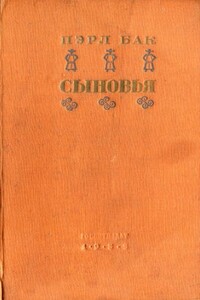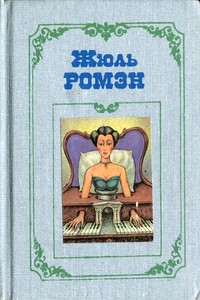Дитя слова | страница 17
Нельзя сказать, чтобы те, кто считал меня неисправимо плохим, не имели к тому оснований. Память сохранила среди самых ранних картин детства то, как я в общественном парке топтал тюльпаны. Затем я перешел к более серьезным разрушительным акциям: мне правилось бить людей, нравилось ломать вещи. Однажды я попытался поджечь приют. Мне не было еще и двенадцати, когда я предстал перед судом для несовершеннолетних. После этого у меня регулярно возникали неприятности с полицией. Тогда меня направили к психиатру. В очередное Рождество мне не разрешили увидеться с Кристел. Я уже начал считать себя изгоем, человеком полностью и абсолютно конченным, как вдруг обнаружил новый источник надежды и постепенно стал растить в себе эту надежду, как семя. Спасли меня два человека — ни один из них не сумел бы осуществить это в одиночку. Во-первых, это была, конечно, Кристел. А во-вторых — замечательный школьный учитель. Фамилия его была Османд. Имени его я так и не узнал.
Мистер Османд преподавал французский и время от времени латынь в скромной безвестной запущенной школе, куда я ходил. Он учительствовал там уже много лет, но я попал к нему только лет в четырнадцать, когда за мной уже укрепилась репутация хулигана. До тех пор я, можно сказать, ничему не научился. Я умел (с грехом пополам) читать и, хотя посещал занятия по истории, французскому и математике, однако почти ничего по этим предметам не знал. Наконец я уразумел, что на меня просто махнули рукой и уже не пытаются чему-либо научить, — это яснее всех нравоучений школьной администрации дало мне понять, что я человек совсем пропащий, и моя озлобленность и чувство, что все вокруг несправедливы ко мне, — усилились. Дело в том, что вместе с возникшим отчаянием появилась также не дававшая покоя мысль, что, несмотря пи на что, я — парень умный, у меня есть мозги, хоть я до сих пор не желал ими пользоваться. Я