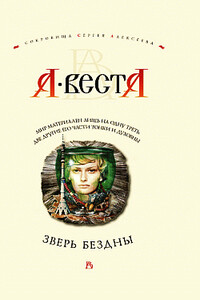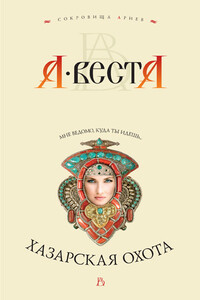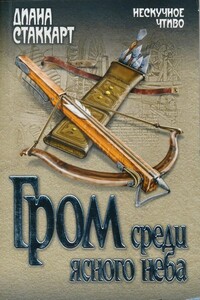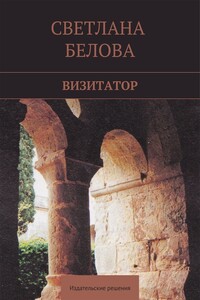Язычник | страница 94
Я и Верес вернулись, подковыляли к нему. Дистрофик корчился на боку, уткнувшись носом в колени. Ресницы и брови его заиндевели, он громко сопел, жмурился.
— Оставьте меня, не хочу, — бормотал он.
— Все, брат, отмучился… Лежи здесь. Все равно — амба!
Двое зэков тоже подошли и смотрели с брезгливой жалостью. Верес зачем-то потянул дистрофика за рукав, обтряс снег. Но тот отбоднулся из последних сил, плотнее свернулся, сжался, как утробный младенец, и спрятал кулачки на груди. Мы ушли не оглядываясь. Небо было темным, слепым, вьюжным, но снег подбеливал тьму, и мы видели впереди спину Вереса, он прокладывал путь.
— Все, привал, — выдохнул Верес. Он лежал на спине и тяжело дышал, хватая губами снег. Он даже ватник раскрыл на груди, словно ему не хватало воздуха.
— Кончается пацан, — сквозь вой пурги, прокричал пожилой зэк. — Не сберег силы-то, все впереди бежал.
Привалившись спинами, двое зэков уселись отдыхать. Вскоре пожилой подвалил ко мне и прогудел:
— Идти надо, замерзнем.
— Идите, я с ним останусь…
— Не дури, салажонок. Вставай, а то уснешь… Утром вертолеты пошлют…
Я помотал головой.
— Ну, как знаешь…Один пропадешь…
Я укрыл, как мог, Вереса от ветра. Он бредил, бился, рвал телогрейку и шептал, задыхаясь: «Люблю холод, лед… люблю…» Снег уже не таял на нем, а он все мучил ворот, словно ему не хватало воздуха. Если бы его зверски не избили летом, он бы не выбился из сил так рано. Помню, мне хотелось рыдать, выть по-волчьи, но Верес бы не одобрил. Я свидетельствую: смерть его была величава, как может быть величава смерть воина. Я знаю, он был лучше меня, смелее, чище, и от того жестче и нетерпимее к грязи. Он четко делил мир на черное и белое, а я был вечным пленником сумерек и полутонов. Перед смертью он ненадолго пришел в себя.
— Мамка будет плакать. А ты обязательно дойди… И еще… Стихи, читай…
В ладони его белел скомканный листок. Вокруг было темно, и я не видел строк, процарапанных на мятой бумаге. Я не знаю ни одной молитвы, но мне их всегда заменяли стихи. В тюрьме и в лагере они лечили и спасали меня. Достаточно было прочесть несколько стоящих строк, и я собирался с силами, сама собой распрямлялась согнутая страхом спина. Мерные звуки русской речи содержали в себе нечто священное, и я вспоминал, вернее, чувствовал гордость за то, что я русский, и меня невозможно растоптать, раздавить, уничтожить. Я вечен, как вечна Россия. Я прочел наизусть то, что выучил когда-то на пересылке. Губы леденели и не слушались.