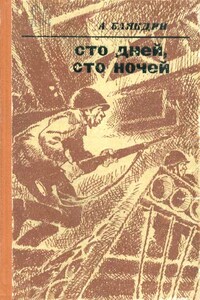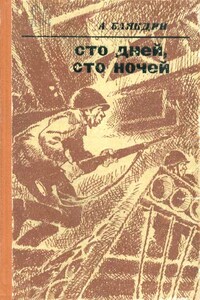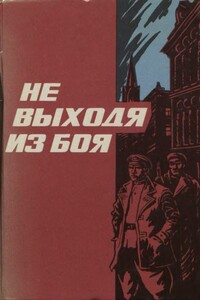Сто дней, сто ночей | страница 84
Прихожу в себя или, вернее, просыпаюсь только на следующий день в блиндаже командного пункта, теперь — лазарета, Это убежище давно уже утратило свое первоначальное название.
Заволжье грохочет сотнями орудийных глоток. Над нами то и дело шипит, гудит, бухает. Мне страшно хочется спать, но Семушкин, который склонился надо мной, тормошит меня:
— Митрий, началось… Слышь, аль нет?
Я улыбаюсь, да, я улыбаюсь улыбкой счастливого человека и закрываю глаза, показывая, что слышу.
А что было вчера? Начинаю вспоминать… И сразу же передо мной появляется девичье лицо Сережки. Я поворачиваюсь к стенке и плачу. Сережка, Сережка, друг!..
Боль в плече и руке напоминает о ранениях. Неужели я ранен? Собственно, что тут удивительного? А как я оказался здесь? И как там, на передовой? Ведь Шубин, помню, погиб. Ситников ранен. А Смураго? А как же немцы? Может быть, мы в плену?
Семушкин сует мне в руку высохшую шкурку от сала.
— На, пожуй… полегчает, — шепотом говорит он.
И вообще я не слышу, чтобы кто-нибудь разговаривал вслух. Я покорно беру лоскуток, пахнущий салом, и кладу в рот. Спросить дядю Никиту я почему-то не решаюсь. А вдруг мое предположение о плене подтвердится? Лучше уж быть в неведении.
Кусочек шкурки точно придает мне силы.
— Дядя Никита, — не оборачиваясь, тоже шепотом, обращаюсь я к своему приятелю, — как там, наверху?
Семушкин трет на подбородке рыжую щетину и как будто не смеет ответить.
— А ничего, Митяй, все так же, — наконец отвечает он.
— А Смураго?
— Жив он. Тебя-то ведь он вынес.
Я мысленно благодарю его.
Начинать разговор о Сережке у меня не хватает духу. И нужно ли?
Я шевелю пальцами правой руки. Они почернели и распухли. Белый бинт в желтых пятнах. Плечо тоже перевязано. Пробую поднять руку — больно. Иногда какой-то дребезжащий свист перекрывает шум канонады. Что это? Новый вид оружия? Но почему я не слышу, что говорит Семушкин? Догадываюсь: это у меня в ушах. Значит, легкая контузия.
Переворачиваюсь на другой бок. Напротив сидит Ситников. У него на руках белые перчатки из бинтов. Он попеременно подносит то одну, то другую к носу и трет самый кончик. Лицо его словно замшело. Я с уважением смотрю на него. Открывать зубами затвор — это кое-что значит.
В блиндаже тесно и душно. Запах карболки и йода, вонь грязных тел, белья, портянок, испражнений и приторно-удушливый запах гноя. Но здесь зато тепло — это покамест главное. Вижу, что многие раненые сидят: им негде лечь. Я лежу на месте Семушкина. Он сидит у меня в ногах и время от времени поправляет на мне шинель.