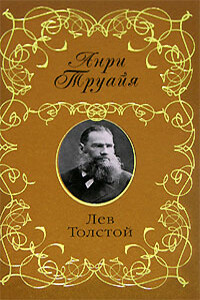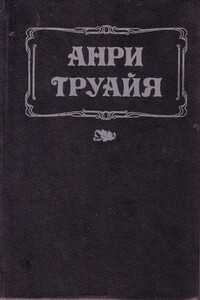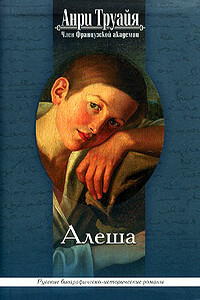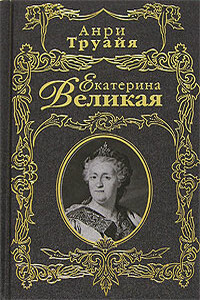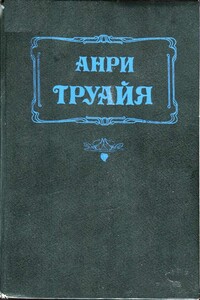Моя столь длинная дорога | страница 77
Незадолго до завтрака в Елисейском дворце состоялась торжественная церемония моего вступления в Академию. Я попросил Франсуа Мориака и Андре Моруа быть моими крестными отцами. Они великодушно согласились, и я до сих пор бесконечно им за это признателен, настолько было бы мне неловко одному появиться в облачении академика. Поверьте мне, маскарад этот невыносим. Какой-то пережиток пышных празднеств былых времен. Я не мог чувствовать себя естественно в расшитом золотом мундире со шпагой на боку. Кровь застыла у меня в жилах, когда я в первый раз увидел себя в зеркале в этом наряде. Я содрогался при мысли, что в подобном одеянии придется предстать перед публикой. Напротив, похвальная речь в память моего предшественника Клода Фаррера не доставила мне затруднений. Фаррер многословен, в его творчестве нет загадок, но этот великий путешественник пленял когда-то мое воображение своими сказками и романами. Пусть в них нет психологизма, зато есть вкус к экзотике и привлекательная живость рассказа. Об этом я собирался как можно лучше сказать в своей речи. Ответную речь произносил маршал Жуэн, которому был поручен мой прием.
Когда в назначенный день я вошел в зал торжественного собрания в сопровождении Франсуа Мориака и Андре Моруа, я почувствовал, что ноги у меня подкашиваются. Выстроившиеся в ряд гвардейцы взяли на караул. Гремели барабаны. Это было величественно и мрачно. Я перестал понимать, куда меня ведут: к алтарю или на эшафот. Накрахмаленная манишка холодила грудь, жесткий воротник мундира резал шею, шпага ударяла по бедру. А передо мной в амфитеатре плотно, плечом к плечу, сидели зрители, словно пришедшие на бой гладиаторов. Едва я начал говорить, как ощутил, что раздваиваюсь: твердым голосом я читал мою благодарственную речь, а во мне все было страх, растерянность, растроганность. Мой отец сидел в первом ряду. Мать, совсем больная, не могла прийти. Чуть дальше я видел Гит, детей, друзей. Я боролся с собой, не позволяя взглядам тех, чье мнение было мне дороже всего, отвлечь меня от Клода Фаррера. В самый разгар моей речи в зале произошло движение. У меня мелькнула мысль, что какая-то особенно отточенная фраза моей речи так взволновала присутствующих, что они не могли усидеть на месте. Реальность была прозаичнее: одной из дам стало дурно и соседи помогали ей выйти. Прервав поток своего красноречия, я ждал, пока она покинет зал, и снова кое-как подхватил нить своей речи. Наконец – заключительная ее часть, аплодисменты, и я, чувствуя, что на лбу у меня выступил пот, а сердце совсем размякло, могу сесть. Поднялся маршал Жуэн и произнес хвалу новому академику. Я склонил голову под комплиментами. Маршал Франции говорил о моем прошлом эмигранта с прямотой и сердечностью, перевернувшими мне душу. Несомненно, подлинное величие Французской академии – в традиционном духе терпимости, независимости и гуманизма, объединяющем столь разные умы.