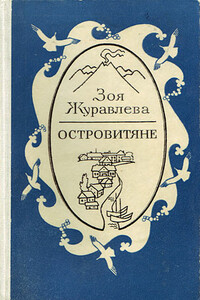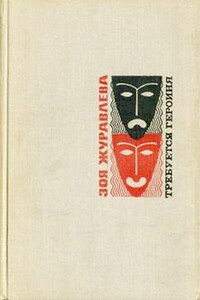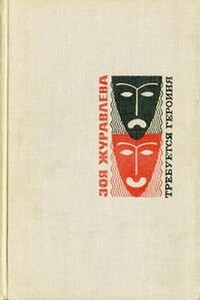Роман с героем конгруэнтно роман с собой | страница 38
«У нас в Конаково» привольно текла река Волга, в ней утонула старшая сестра, Лизавета, красавица и умница, не «улица» называлось, а «слобода», в каждом доме родилось много детей, у каждого от рождения были в дому свои обязанности, крепко стоял завод, в заводе (всегда — «в»!) работали по наследству и сызмальства, пропусков не было, вход в завод был свободный, воровства не водилось, в заводе делали красивую, на радость людям, посуду, фаянсовую — чуть отдающую в благородную желтизну, ее сразу на взгляд узнаешь, и из фарфора, знаменитые «кузнецовские» сервизы (тогда еще было «Кузнецово», но тетки всегда говорили: «Конаково») с яркой росписью по трафарету. Им нравилось звучное слово «трафарет», особенно — тете Але, она в заводе училась на художницу по посуде, была способная к этому, каким-то везеньем сохранился в доме петух, которого тетя Аля сама расписывала «по трафарету», он и сейчас стоит у меня на столе, все его замечают, есть в нем особенная, неведомая ширпотребу, молодцеватая удаль позы и веселящая сердце непредсказуемость красок, будто — небрежность их, кинутых по всему петуху кое-как, с бесшабашною волею.
Когда тетя Аля училась в заводе, у них был мастер по росписи, Бахмутьев, он был талант, но «большой охальник», ругался на учеников (да, «у нас в Конаково» скверных слов не употребляли, крепких напитков почти не пили, разве что — под праздник и то слегка, только для бодрости), так этому Бахмутьеву, чтоб его одернуть, как-то прямо на стул налили скипидару, он сел, посидел, потом вскочил и молча, держась за штаны, выбежал из цеху. Меньше после того ругался. Тетя Аля сама лила скипидар, это, видимо, было самое отъявленное злодейство в ее кроткой жизни, рассказывая о нем, она всякий раз розовела, что-то изнутри ее вспыхивало и обдавало шею жаром, глаза делались круглые, темнели, и морщинки от них уходили. Тетя Люба, всякий раз следящая эти перемены, тут всегда вздрагивала, трижды плевалась в сторону, аккуратно — без слюны, и говорила с чувством: «Ты, Алька, — чистый бес! Как это можно — живому человеку скипидару в штаны, небось, — штанов-то у него не сто было?» Тетя Аля загадочно улыбалась: «А что было, Люба, то было, это уж не воротишь».
«У нас в Конаково» ведрами носили бруснику, грибы, клюкву, сами ловили рыбу, мясо ели редко, зачем оно, корова была — кормилица и звали ее Бутуля, когда у ней умер первый теленок, вдруг выпил белила, Бутуля плакала, слезами — как человек, растили пшеницу, пекли блины, много смеялись, пели, круглый год ходили босые, веселые, все любили друг дружку и никогда не ссорились. «У нас в Конаково» рано «умер чахоткой» папаша, в заводе все умирали легко, чахоткой, лежал на горячей печке, молчал, глаза были огромные и сухие, все ушли на покос, и папаша тихо умер, самая младшая сестра, Клава, она и сейчас в Конаково, была еще в «зыбке» и сосала ногу. Мамаша, ей тридцати еще не было, повязала на голову тугой черный платок, больше его уже не сняла, и четверо суток лежала на папашиной могиле, плакать она не умела. Потом сгорел дом. Бутулю успели вывести, а поросенок сгорел, в заводе сделали добровольный сбор, много денег собрали, все же — осталось шестеро сирот, мамаша, хоть она ни одной буквы не знала, сама все просчитала в уме, как строить, сколько куда кирпичей и как выводить печку, все Конаково строило новый дом, он вышел «справный», будто картинка, очень теплый.