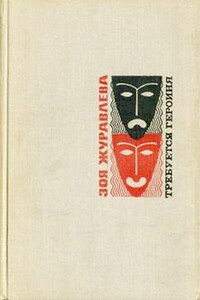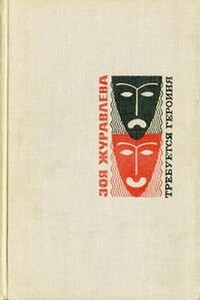Роман с героем конгруэнтно роман с собой | страница 37
Папа всю жизнь любил меня слепой любовью и доверял абсолютно, а мама, как всегда, забеспокоилась, поскольку всю жизнь не могла понять, с кем и как я дружу и хорошо это или вдруг, может, плохо. Мама — как более традиционная, исконное женское начало русской поэзии, — склонялась, видимо, к мысли, что лучше бы — как у людей. Я же достаточно редко давала ее душе такой отдых. «Благодаря кого» было тогда любимое Валино выражение, оно сразу вошло в наш код — как изыск и средство мгновенного опознавания душ, если б тела наши вдруг мгновенно и неузнаваемо переменились, мы все равно безошибочно опознали бы друг друга по этому знаку. В растущих отношениях, любви ли, дружбы, всегда заложены эти тайные, глупенькие порою — со стороны, языковые знаки, они будто сгущают душевную теплоту, их грамматическая, или иная какая, неправильность придает им особую прелесть, открытую лишь посвященным. Недаром с кодовыми словами я помню даже целые куски из Валиных писем. Или вот открытка:
«Седой Камчатки старожил остановил у почты нарты, сестре открытку опустил, поздравил с Днем Восьмого марта. Напрасно говорят о нас, что невоспитанны и грубы, благодаря кого сейчас улыбкой ты скривила губы?»
Можете мне поверить, ни единой больше — чисто поздравительной — открытки в моей памяти нет, хоть ненужного хламу там полно.
Помню, как через несколько лет, уже в Мурманске, меня в третьем часу ночи поднял междугородний звонок. Звонила родная моя тетя Аля, папина сестра, безвыездно проживавшая на углу Литейного и улицы Некрасова с другой моей тетей, тетей Любой, в отдельной двухкомнатной квартире, и страшным голосом сообщила, что дозванивается уже который час, связи нету, а к ним в квартиру с вечера еще ломится какой-то черный мужик, они глядели в «глазок» — волосатый и полон рот ровных белых зубов, молодой, требует, чтоб ему немедленно открыли, потому что он — Раечкин, то есть — мой, родной старший брат. На робкие уверения теток, что у Раечки, как им доподлинно известно, никаких братьев нет, даже двоюродных, все в блокаду погибли, черный мужик смеется, говорит, что он лучше знает, несет вовсе уж несусветную чушь, будто он уронил меня куда-то из колыбели и вовек себе этого не простит, интересуется, как их и мое здоровье…
Тетки у меня были робкие, старозаветные. Папа их еще в юности перетащил за собой в Ленинград, как только сам — после детдома — поступил на рабфак, всю жизнь они проработали на заводе Козицкого, тетя Аля была «кладовщица», слово это в ее устах звучало гордо-значительно, с намеком на — клад, пережили блокаду, потеряли детей, братьев, мужей, чудом сами не померли, спасла «хряпа», тетя Люба в ту зиму работала на санэпидстанции, ее туда «бросили», и имела к этой хряпе какой-то доступ, она и нас хряпой вытянула, это — гнилые, самые наружные листья на капустном кочне, я их до сих пор люблю обгрызать, а Машка кричит: «Мам, опять ты всякую гадость в рот тащишь!» Но за всю свою взрослую жизнь тетки мои так и не привыкли к городу. Приспособились, конечно, даже полюбили, но так и не смогли привыкнуть. Говорили: «у вас тут в городе…» — это могло быть как угодно, порой сомнительно. И — «у нас в Конаково», это всегда было отменно, сомнению не подлежало.