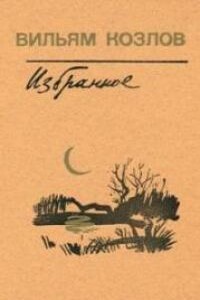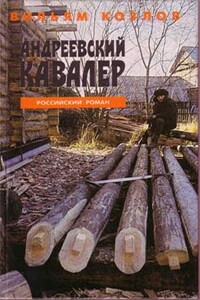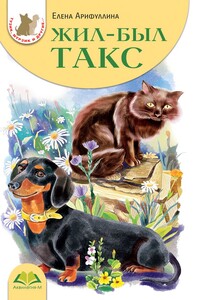Брат мой меньший | страница 16
В руке у меня — вырезанная из березы палка, которой я постукиваю по черным шпалам, поддаю мелкие камешки. Чем ближе мы к лесу, тем больше веет на нас вечерней прохладой, в нос ударяют знакомые запахи сосновой смолы, скошенной травы, луговых цветов. Маршрут у нас всегда один: вдоль линии до светофора, потом вниз с насыпи, под откос, где растет земляника, и, наконец, по узкой лесной тропинке, в основном протоптанной нами, до Рябиновика — так называется неширокий ручей. Ручьем он бывает весной, в разлив, а летом это густо заросший болотными травами луг. Рябиновик мы с Караем переходим редко. Я усаживаюсь на черный, давно обжитый мною пенек, а Карай ложится у ног. Если жарко, он вываливает из пасти красный язык и тяжело дышит, глядя на синичек и трясогузок, прыгающих на полянке. Высокие сосны окружают нас — просвет лишь там, где ручей. Над головой сосредоточенно стучит дятел. Слышно, как сыплется на землю труха. Иногда прилетает с другой стороны Рябиновика ворона и недовольно каркает на нас. По-видимому, у нее где-то близко гнездо.
Глядя на закатное небо, подсвеченное розовым, на медлительные облака, я обдумываю главу повести, над которой сейчас работаю. Пернатые обитатели леса привыкли ко мне и скоро перестают обращать на нас внимание. Птицы, негромко попискивая, снуют меж ветвей, на лугу порхают бабочки и стрекозы. Иногда вдоль кромки леса с воинственным жужжанием пролетает шмель. Скоро Караю надоедает лежать, и он, лениво поднявшись, начинает обследовать окрестности, но далеко от меня не уходит.
Благословенную вечернюю тишину нарушает самый неприятный звук на свете — тоненькое комариное зуденье. Кровопийцы прилетают с луга и сразу всей оравой набрасываются на нас. Белесые, с рыжинкой, твари вонзают свои жадные хоботки во что попало, ухитряются даже проткнуть носки, рубашку. Слышу, как захамкал, лязгая зубами, Карай: он пытается ловить их пастью. Делать нечего — надо подниматься. Зная, что комары так просто не отступятся, мы с Караем прямо с места совершаем небольшой марш-бросок. Мчимся сквозь лес к железнодорожному полотну. Когда останавливаемся, комаров не видно, а если какой спринтер и увязался за нами, я безжалостно уничтожаю его звучным шлепком. Комары здесь хитрые и стараются прилепиться сзади к шее и к голове, зарывшись в волосы.
Слышится протяжный паровозный гудок — по этой ветке все еще ходят древние паровозы, которые по-прежнему милы моему сердцу.
К старости Карай все неохотнее сопровождал меня в лес. Но я привык ходить с ним и всегда уговаривал прогуляться. Он нехотя соглашался, давая понять, что вообще-то ему это ни к чему, но так и быть, ради дружбы. Только теперь он не бежал резво вперед, а уныло плелся сзади, то и дело отставая. И если я забывал о нем, переставал оглядываться и окликать — он сворачивал с пути в сторону, выходил на проселок и, прячась за изгородями, возвращался домой. Правда, я замечал, что всякий раз после этого его мучила совесть. Он вылезал из конуры и, потягиваясь и улыбаясь, вышагивал ко мне навстречу, не сгибая лап, отводя глаза в сторону. Весь вид его выражал раскаяние, смирение. А стоило мне хотя бы слегка пожурить его, как он тут же виновато опускал голову, сгибал свой непокорный твердый хвост и понуро уходил в конуру. И оттуда укоризненно смотрели на меня два карих глаза, почти полностью спрятавшихся в густой шерсти…