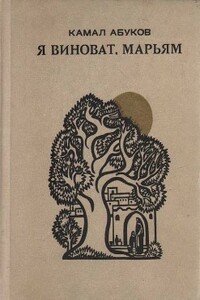На диком бреге | страница 61
Траншея для первой землянки была почти прорублена. Копая, Олесь прикидывал, как впишет в нее сруб, чтобы было и окошко, выходящее на юг, и дверь, не пропускающая суровых в этом краю холодов. Все шло на новом месте, казалось бы, как надо. И все-таки покоя не было. Тревога, рожденная в ночном разговоре с женой, не рассеивалась. Ганна ни разу не вернулась к тому разговору. Но сам Олесь, точно бы став в ту ночь зорче, по множеству мелочей, по тому, как подолгу, думая, что ее не видят, смотрела она на фотографию домика, который они оставили, по тому, как произносила: «А у нас в Усти», — как она однажды, должно быть забывшись, твердо сказала в пространство: «Ладно, в остатний раз потерпим трошки…» — по всему этому Олесь понимал, что она ничего не забыла. Понимал и думал: «И верно и правильно: хватит, покочевали!»
— И баста! — вслух сказал Олесь, останавливая тягостные мысли.
— Батько, вы что? — недоуменно оглянулся Сашко, который сбрасывал под откос землю, выбираемую отцом.
— Что да что, кидай себе знай! — сердито сказал Поперечный, хватаясь за заступ. Мудро, задумчиво шумели деревья, по-осеннему редко цвикали птицы, сердито звякала лопата, а перед Олесем стояли дорогие, полные тоски и обиды глаза-вишни. «Может, под старость Героя себе выцыганишь!» — звучало в ушах. «Эх, Ганка, Ганка, за что так? Как можешь о муже так думать, шестнадцать лет вместе прожили!.. Героя!»
И опять лезли, теснясь, толкаясь, непривычные мысли. Ну не деньги, не слава, так что же тебя загнало в эту тайгу? Почему меняешь обжитой дом на эту вот звериную нору? Ну?..
— Говори, почему тебя в пройдисвиты тянет? — снова произнес он вслух. Сашко оглянулся, но ничего уже не сказал. Что-то странное творится все эти дни с батьком. Сердитый стал, раздражительный, сам с собою во сне разговаривает. Вот и сейчас…
— ….Седой волос пробился, а прыгаешь, как блоха, с плеши на задницу, хай тебе грец!..
Нет, лучше не спрашивать. И мама тоже. И оба они это друг от друга скрывают. У батька вон на лбу морщины какие! Раньше появлялись, когда уставал, а теперь точно ножом вырезали.
— Давай, Сашко, поспевай, а то завалю! — кричит Олесь, увеличивая шматки грунта, летящие вниз. Но вот опять стоит он, опираясь грудью о деревянное стремечко лопаты, и смотрит не то на вершины пихт, не то на пролетающие над ними чистые, будто бы только что выстиранные облака. Но лицо у него не спокойное, не мечтательное, какое бывает у людей, смотрящих на небо, а тревожное, растерянное.