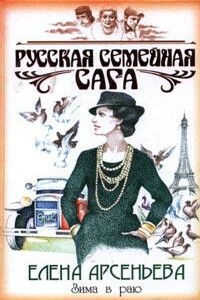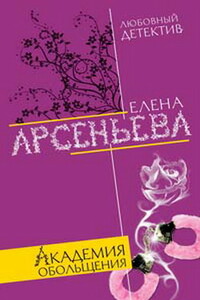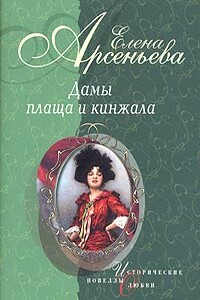Венецианская блудница | страница 94
«Да что же это?» – Лючия смятенно стиснула руки, едва сдерживая слезы. Какие чужие глаза у него. Он ничего не понимает. Он зол, что жена – эта свалившаяся ему на голову, немилая жена! – вдруг развоевалась и оказалась не только дурой, но и сварливой бабой!
Ну что ему сказать? Как объяснить эту тягу к нему? Как объяснить… Лючия была прекрасно образована, и когда тот образ жизни, который она вела в Венеции, утомлял ее, она могла найти успокоение в стихах, и музыке, и красоте заката над морем, и почтительном созерцании Тициановых полотен – могла если не успокоиться, то забыться. Но как сказать ему, что теперь лишь в его объятиях жизнь обретает смысл?! Невозможно, невозможно признаться ему. И еще труднее смириться с этим самой.
Между тем староста с сыном уже почти достигли спасительной двери и начали в нее потихоньку просачиваться, однако вдруг оказались втолкнутыми обратно как бы мощным потоком, которым оказалась Ульяна, со всех ног ворвавшаяся в комнату с криком:
– Дядя Митрофан! Барин тебя простил! Простил! Оброк отдать – да и ладно! Ой…
«Ой» относилось к князю, на лице которого вспыхнула усмешка.
– Простите великодушно, ваше сиятельство, князюшка. Я не думала, не знала… – пролепетала Ульяна, а глаза, ее перепуганные глаза, устремленные на Извольского, налились счастливыми слезами. – Вы небось им сказали, да?
– Пока не успел, – ласково, так ласково, как он говорил только с Ульяною, ответил князь Андрей. – А теперь скажу. Ну что, дядя Митрофан, что, Северьян, – благодарите свою заступницу!
Оба взглянули на Лючию, но тут же отвели, нет, вернее будет сказать – отдернули взгляды под повелительным окликом князя:
– Ульяну благодарите! Когда б не она – ходить бы тебе, дядя Митрофан, голобородым!
И князь, хлопнув себя по коленям, радостно захохотал, сам чувствуя явное облегчение оттого, что не свершилось позорное наказание.
Смеялся сквозь слезы и староста, и Улька хохотала-заливалась. Откуда ни возьмись, как всегда, появился Петрушка и, внимательно оглядев развеселившихся взрослых, решил присоединить свой серебристый голосок к общему хохоту.
И только двое не приняли участия в общем удовольствии. Северьян с испуганным, как бы прибитым выражением глядел на Лючию, а она… ей почему-то было холодно, до того холодно, что даже щеки озябли, и она потерла их безотчетным, нервным движением.
«А я как же? – хотелось крикнуть ей. – Я ведь тоже просила за Митрофана!»
Да. Вот именно. И выставила себя невероятной дурой, обвиняя князя в том, чего он и не собирался совершать. Нет, собирался… пока Ульяна не отговорила.