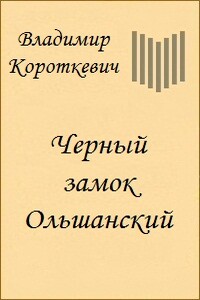Чозения | страница 47
«Чозения», — с нежностью и почему-то с тревогой подумал он.
Тишина. Закат. Река. Женщина в зарослях чозении на берегу. Сама тоненькая, сама стройная, как чозения.
— Хорошо мне, — внезапно сказал он.
— Вам редко бывает хорошо?
— Очень. Но здесь мне так хорошо, как никогда в жизни. Тихо. Совсем безлюдно. Будто миру и людям еще только надо родиться. Будто тысячелетия до Хиросимы. Будто ее никогда не будет.
— А я? — спросила она.
А вы разве человек? Вы первая чозения. Высокая чозения. Стройная чозения. Чозения, которая помогает всем. А раз всем, то и мне.
Внимательно, золотыми от заката глазами смотрела она на него.
— Слушайте, Будрис. Я знаю вас давным-давно. После этих слов мне вообще кажется, что вы зна комы мне с начала дней. Но кто вы? Кто вы, Будрис? Почему вам плохо? Плохо потому, что вы — это вы? Кто?
— Так, — сказал он. — Счетная машина. Может, чуть больше, чем счетная машина. Так говорят. Вы простите, если я вместо прямого ответа расскажувам притчу?
— Давайте.
— Где-то в начале нашего столетия в большом городе в Белоруссии была выставка. Хозяйственная. Разные там достижения. Она же и ярмарка. Сало толщиной с лопату, шире моей четверти…
— Трудно представить, — сказала она.
— …ну, жито, жеребцы на цепях, распятые, мундштуки грызут. Звери! И приходит на эту вы ставку мой дед. Плотник был по тем временам, ей-богу, первоклассный. Ну и, ясно, сундуки ладил, телеги, все такое. Приходит и сразу в дирекцию. В суме — угольки, под мышкой — доска еловая. «Ну, а ты чего?» — спрашивают в дирекции. А он им степенно: «На выставку. Да места нет». — «А чего привез?» — «А вот, — говорит. Поставил он доску, достал уголь. — Смотрите». И ж-ж-ик — одним движением руки чертит окружность. А затем точкуставит, центр. Те циркулем проверять… Бог ты мой!.. Геометрически точный круг. И безупречно — центр. И вот так он все время показывал. Угол делил на две половины, любой многоугольник обводил окружностью. Всю геометрию — на глаз, не имея о ней и понятия.
Помолчал.
— Вот и у меня такое фамильное несчастье. Вот так и я. Где циркулю не под силу, где его вообще нет, там зовут меня, и я живо черчу безукоризненный круг.
— Кажется, я понимаю, — тихо сказала она. Она в самом деле понимала. Северин убедился в этом, заглянув ей в глаза.
— Я не могла бы. Ни за что. Видите, здесь мир, и свет, и красота. Бродят звери, летают птицы, растут чозении. И даже леопард, что рыскает вокруг, не портит картину. Потому что это праздник и пир жизни. И рождение и смерть ее. Естественная, никем не придуманная смерть. Изобрести предначертание — что может быть страшнее?! Не холодно вам там?