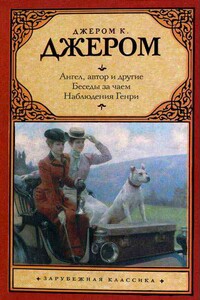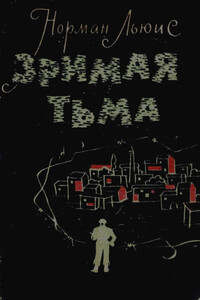Фунт лиха | страница 67
«К реке, к реке!» — начал подталкивать Тарасов сам себя в сторону водянистого темного дыма, задышал прерывисто, с нехорошими перебоями, с кашлем, раздирающим ему глотку, рот, окропляясь потом, одолел сопротивление собственного организма и ползком двинулся по направлению к Танымас, не зная еще, доберется до воды или нет.
Он лицом, плечами, грудью зарывался в жесткий, липкий, как сахар, снег, забивающий тычками ноздри, рот, приклеивающий жгучие оладьи к глазам, мычал надломленно, пытаясь оторвать голову от земли и стать на карачки, и щерился от безуспешности попыток и затяжной тупой боли.
Поняв, что до реки он все-таки не доползет, Тарасов развернулся головою к палатке, двинулся обратно. Потом остановился, достал из кармана зубную щетку, пробил черенком пробку, залепившую ему рот, поболтал во рту, растирая снег о зубы. Сплюнул. Слюна была кровянистой, в ярких тягучих прожилках. Почему-то ему раньше мнилось — интересно, почему? — что утренний «моцион», приведение себя в порядок — единственное, что связывало его с жизнью, и оборвись эта непрочная ниточка, не соверши он то, что совершал каждый день, — и все, можно считать себя окончательно похороненным. Ничего страшного не произойдет, если он вообще этого «моциона» совершать не будет. Проживет и так.
Но вот какая странность — несмотря на немощь, на боль, в нем родилось удовлетворенное чувство — как же, как же, одолел самого себя, обманул, победил смерть, выжил, встретил достойно день, который, по велению судьбы и его самого, ему надлежит прожить. Вы понимаете, как прекрасно это звучит: жи-ить, прожить, выжи-ить!
Вернувшись ползком в палатку, он запалил керогаз, не жалея горючки — завтра она уже не понадобится, — если только Манекину!, но он вытянет и без керогаза, на колбасе своей продержится, — поставил котелок со снегом. Когда снег растаял — сунул в воду остатки вываренных обгрызенных галочьих перьев, чтобы сварить их еще раз.
Через некоторое время — удивительная штука! — в палатке вдруг довольно различимо, ясно забрезжил, затеплился невкусный осиный дух. Все равно, несмотря на вонь, это был дух еды.
Он подполз к Студенцову, откинул у него клапан спальника и вздрогнул — Володино лицо было стылым, восковым, чужим, нос заострился, на кончике черными затвердевшими скрутками собралась облупившаяся кожа, темные, будто бы обуглившиеся язвочки на щеках отвердели, в нечесанных скрутках бороды застрял, совсем не растворяясь, снег — в лице уже не было тепла. Неужто Володька Студенцов умер, пока он пластался на улице, головою таранил снег, неужто? Тарасов скривился лицом, отворачиваясь в сторону, заскулил: что же это такое получается? Они что же, совсем без помощи остались, совсем брошенки они? Ни людям, ни богу, ни зверям, ни птицам не нужны? Брошенки? Неужто там, на Большой земле, в теплых кабинетах спортивного общества не знают, не догадываются, что с ними, с альпинистами Тарасовым, Студенцовым, Присыпко и... с этим самым... с Манекиным происходит? Неужто они не могут выслать на ледник спасательный отряд?