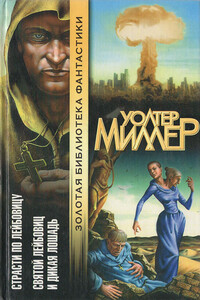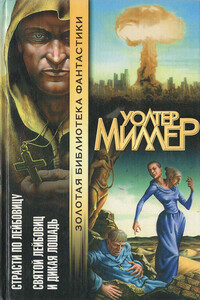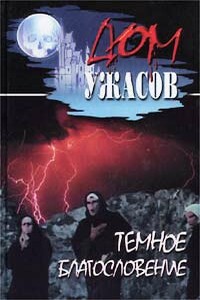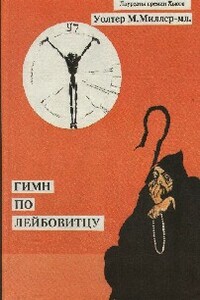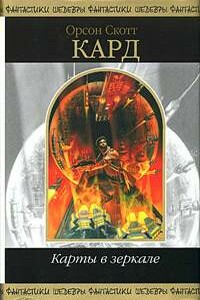Гимн Лейбовичу | страница 22
Удовлетворившись небольшой ракой блаженного и случайными пилигримами, брат Франциск задремал. Когда он очнулся, огонь уже погас, видны были только тлеющие угли. Что-то было не так, он был явно не один. Он всмотрелся во тьму.
С другой стороны кострища на него смотрел черный волк.
Послушник вскрикнул и нырнул в укрытие. Этот крик, решил он, трясясь от страха в своем логове из камней и хвороста, был простительным невольным нарушением обета молчания.
Он лежал, обнимая металлическую коробку, слушал, как когтистые лапы скребут ограду, и молился о том, чтобы дни великого поста скорее миновали.
3
— …И тогда, отец мой, я почти взял хлеб и сыр.
— Но ты не взял их?
— Нет.
— Тогда это не смертный грех.
— Но я хотел их так сильно, что даже как бы ощутил их вкус.
— Намеренно? Ты получал удовольствие от своей фантазии?
— Нет.
— Ты пытался отрешиться от нее?
— Да.
— Тогда твое обжорство в помыслах не заслуживает порицания. Почему ты исповедуешься в нем?
— Потому что потом я впал во гнев и окропил пилигрима святой водой.
— Что ты сделал?! Почему?
Отец Чероки, одетый в орарь, внимательно посмотрел на кающегося — тот стоял перед ним на коленях, открытый обжигающим лучам солнца. Священник подивился, как такой молодой, и не особенно образованный, насколько он мог судить, парень ухитрился найти повод, или почти повод, для совершения греха, будучи совершенно изолированным в бесплодной пустыне, вдали от каких бы то ни было развлечений или явных источников соблазна. Он нисколько не сомневался, что мальчик, вооруженный только четками, кремнем, перочинным ножом и молитвенником, не мог уйти далеко. Но исповедь слишком затянулась, и он желал, чтобы послушник поскорее закончил. Подагра снова начала беспокоить отца Чероки, но поскольку на складном столике, который он носил с собой во время обхода, находилось святое причастие, то он предпочитал стоять или преклонять колени вместе с кающимся. Он зажег свечу перед небольшим золоченым ящичком с гостией,[29] но пламени не было видно в сиянии дня. Легкий ветерок все время порывался задуть его.
— Но заклятия позволительны в эти дни без какого-либо высшего дозволения. В чем же ты раскаиваешься? В том, что рассердился?
— И в этом тоже.
— И на кого же ты рассердился? На старика или на самого себя… за то, что почти коснулся пищи?
— Я… Я не знаю.
— Ну, решайся же наконец, — нетерпеливо произнес отец Чероки. — Или вини себя, или нет.
— Я виню себя.
— В чем? — вздохнул Чероки.