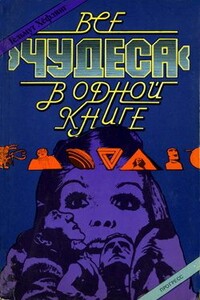Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима | страница 107
Цицерон (103-43 гг. до н. э.), величайший римский оратор, а после смерти Цезаря вождь сената, в своих философских трудах развивает аристотелевское положение о том, что один человек рожден для подчинения, а другой — для господства. Так как некоторые работы недостойны свободного человека, то сама свобода граждан предполагает наличие рабства. В другом месте Цицерон разбирает вопрос о том, следует ли кормить рабов при вздорожаниях, а также о том, кого следует спасать при кораблекрушении в первую очередь — прекрасного коня или дешевого раба.
Но еще и в первые годы Империи эллинизированный иудейский философ Филон Александрийский (ок. 20 г. до н. э. — 54 г. н. э.) отстаивал законность приобретения рабов на основании недоказанного утверждения о том, будто цивилизация не может обойтись без рабства.
Таким образом, для человека античности рабство было чем-то само собой разумеющимся, так что полное лишение всех прав и эксплуатацию, связанные с этим институтом, он не рассматривал в качестве особой несправедливости. В этом отношении римский мир также не составлял исключения, если, правда, не принимать в расчет того, что масштабами рабовладения он значительно превзошел все существовавшие до него цивилизации.
Римляне держали рабов с самых древних времен, хотя и в небольших количествах. В распространенном в раннеримскую эпоху мелком крестьянском хозяйстве отец семейства, работавший вместе с детьми, в дополнительных рабочих руках ни по дому, ни в поле особенно не нуждался. Так что раб-слуга и работал вместе со своим господином, и ел с ним за одним столом.
Однако с ростом богатства в Риме резко возросло и число рабов. Причин тому было много. Так, после Пунических войн (264–146 гг. до н. э.), в которых Рим боролся с Карфагеном за господство в западной части Средиземного моря, свободное крестьянство в Южной Италии и Сицилии было практически сведено на нет, а дешевая крестьянская земля досталась помещикам. Одновременно крупные сельскохозяйственные имения все больше вытесняли оставшиеся мелкие крестьянские хозяйства. Римские магистраты возвращались на родину с богатой военной добычей и награбленным в чужих странах добром и, скупая у обедневших и задолжавших крестьян их земли, составляли огромные поместья. Лишенные собственности хозяева двинулись в город, где жизнь из-за постоянных хлебных раздач была дешевле, из-за постоянного прироста благ цивилизации — легче, а из-за всякого рода публичных игр — просто веселее. Огромные латифундии обрабатывались рабами, которых предпочитали свободным гражданам из-за их дешевизны и невозможности использования в качестве солдат в войнах, постоянно ведшихся Римом. Таким образом рабы заменяли свободных крестьян, постоянно находившихся «под ружьем» и часто и в больших количествах погибавших во имя так называемой славы Отечества.