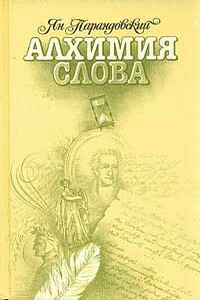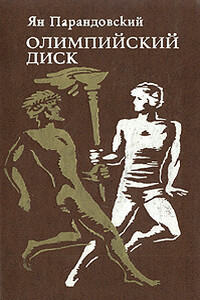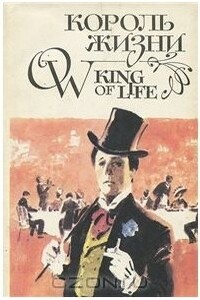Эрос на Олимпе | страница 29
Факелы, воткнутые в стены, погасли. Флейтисты скрылись где-то в дальних покоях, и через приоткрытые двери доносилась их музыка, тихая и полная неги. Стихли беседы. Хоровод танцовщиц растаял, как туман, прикрытый покрывалом ночи. Осталась только одна, белое тело которой казалось серебристым в светлых лучах Селены, гнавшей своих темных коней где-то в глубине молчаливого пространства. И эта единственная, все быстрее кружась в танце, приближалась к ложу богатыря, пока не упала в его раскрытые объятия, как звезда с неба, летящая в черную пучину моря.
Он обнял ее, а она уже выскользнула и исчезла так неожиданно, словно растаяла в полосе серебристого света, который неизвестно откуда ведущей дорожкой лежал на мраморных плитах пола. Нет, не исчезла. Вот опять выросла, как белая лилия, с поднятыми вверх руками и опять извивалась в танце, смысл которого описать невозможно – она, серебряный кубок, полный красного, как кровь, нектара наслаждения. И снова шла к нему в объятия.
Но что же за чары открываются под волшебным взглядом Селены, таинственной хозяйки ночных чудес? Только перед этим слышал ее девичий крик, но в новых объятиях ощущает то же самое бессознательное, неспокойное, тревожное трепетание девы, не знавшей до сих пор любви. И снова исчезла, и снова вернулась – девственницей.
Долго, очень долго тянулась эта необыкновенная ночь. Кто знает, не велел ли и в этот раз отец богов и людей Гелиосу придержать ежедневный бег его солнечной колесницы – на этот раз не для себя, а ради любимого сына. И не знал Геракл, что не чары то были, а благородный обман Феспия,[44] который хотел как можно больше побегов от божественного ствола Геракла. Не зря ведь утром принес волов в жертву. Боги услышали его молитву. От ложа богатыря каждая из его дочерей уходила, неся в своем свежерасцветшем для любви лоне предначертание счастливого материнства.[45]
Геракл спал, когда около полудня в зале для бесед, наполненном теперь золотой солнечной пылью, встали у его ложа дочери старого Феспия. С благоговейным удивлением смотрели на его нагое загорелое тело, руки, подобные ветвям дуба, грудь, как два бронзовых щита, бедра, как два ствола какого-то царственного дерева. И не было в нем усталости или изнеможения, а только сон, сладкий сон, навеянный крылатым Гипносом, который сейчас, сидя где-то среди скал горы Иды, мечтает о самой юной из харит, чудесной Паситее – мечте всех его дней…
СЫН ДЕРЕВА. МИРРА