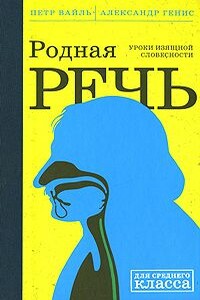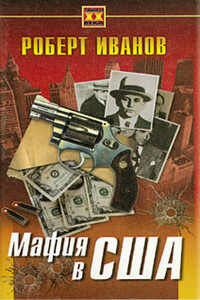Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета | страница 34
Оппозиция, возникшая в СССР во второй половине 60-х годов и добившаяся некоторых заметных успехов, смогла по сути просуществовать немногим более десятилетия. Она была обречена, так как не выдвинула идеологии, противостоящей господствующей. Не оказалось слов. Диссиденты воспользовались тем же словарем — другого не было! — и естественным образом предстали неким пародийным двойником официоза. Это трагедия, беда, а не вина: охват слишком тотален. Миллионы раз повторенное "Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи" даже академика Сахарова не позволяет назвать "честью и совестью": все кажется насмешкой и иронией.
Конечно, трудно идеологизировать слова «стол» или «крыша», но уже, например, «фундамент» — можно, потому что он обычно "прочный фундамент передовой теории". И никуда не денешься: пусть детство будет тяжелым, атака — стремительной, глаза — лучистыми, но все эти сочетания — погибли для русского языка. Даже гвоздика обыкновенно бывает красной, и в "розовой гвоздике" уже звучит привкус новизны и подлинного лиризма.
Что до абстрактных понятий, то их как бы просто не стало. Кто сейчас осмелится произнести простую фразу "У них настоящая мужская дружба" без спасительного вводного "как говорится"? Лишенные семантики клише не являются языком, но заменяют его собой. Русскому народу следовало бы поменять язык, чтобы сохранить его содержание. Это звучит дико, когда речь идет о языке, на котором написана величайшая в мире литература, но тем не менее, такой процесс происходит в наше время.
"Старуха, собери пожрать!" — похоже, что Илья Муромец разговаривает с Бабой-Ягой. Но так с легкостью обращался молодой московский физик к своей юной жене. И, собственно, только это и было нормой. Слово «старик» стало знаменем эпохи вместе с портретом бородатого Хемингуэя и тревожными походными песнями. Стариками были все: отец, начальник, одноклассник, учитель, автор повести в журнале, герой повести в журнале, подруга, жена. В одном из рассказов тех лет: "Старик, ты кормила Алешку грудью?"
Целое поколение изъяло из своего лексикона скомпрометированные понятия. Слово «друг» было абсолютно запретным для широкого употребления и приберегалось для последнего надрывного выплесни, когда песни перепеты и сигарет не осталось. О нежно любимых родителях нормально было сказать: "Мои кони допоздна урыли", потому что слово «мама» вслух являлось почти непристойнстью.
Конечно, все это примеры крайние, и не так однозначен процесс. С одной стороны, свою роль сыграла западная литература мужественного и сурового умолчания, когда под грубым свитером бьется трепетное сердце.