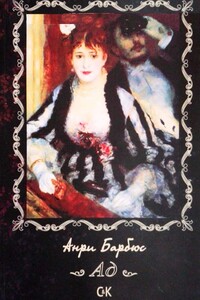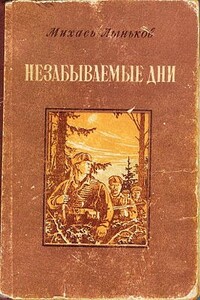Огонь | страница 50
Проходят шесть человек во главе с капралом-каптенармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки сапог.
Ламюз рассматривает свои опухшие, огрубелые ноги.
— Н-да. Мне нужны чеботы, а то эти скоро каши запросят… Не ходить же босиком!
Слышится храп аэроплана. Мы следим за ним; поднимаем головы, вытягиваем шеи; глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять смотрим на землю, Ламюз объявляет:
— От этих штуковин никогда не будет проку, никогда!
— Что ты! За короткое время мы уже достигли таких успехов!..
— Да, но на этом и остановятся. Лучше не сделают никогда.
На этот раз я не спорю: как всегда, невежество решительно отрицает прогресс; я предоставляю этому толстяку считать, что наука и промышленность вдруг остановились на своих необыкновенных достижениях.
Начав поверять мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит:
— Знаешь, Эдокси здесь.
— Да ну?
— Да. Ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил. (Ламюз снисходительно улыбается.) Так вот, знаешь: раз она здесь, значит, кто-то ее интересует. Правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело.
Он продолжает:
— Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня.
— А ты в этом уверен?
— Да, — глухо отвечает человек-бык. — Прежде всего, я ее хочу. А потом, она уже два раза попадалась мне на глаза. Понимаешь? Ты скажешь: она убежала; но ведь она робеет, да еще как…
Он стал посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза. Его лоснящиеся щеки и нос, все его пухлое лицо выражает важность. Он подносит шаровидный кулак к бурым, тщательно закрученным усам и с нежностью поглаживает их. И опять принимается изливать свою душу:
— Я ее хочу… и, знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней. Но, с тех пор как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте… Эх!..
Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства словами.
— Эх, старина! Бывает, что меня надо удерживать крючьями, — мрачно отчеканивает он, и кровь приливает к его жирной шее и щекам. — Она такая красивая, она… А я, я… Она так не похожа на других, ты заметил, я уверен: ты ведь все замечаешь. Правда, она крестьянка, и все-таки в ней есть что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она… Я… Мне…
Он хмурит рыжие брови. Ему хочется выразить все великолепие своих чувств. Но он не умеет изъясняться и замолкает; он одинок, вечно одинок.