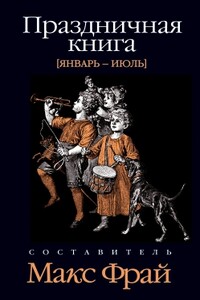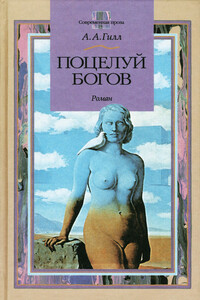Подтверждение | страница 32
Рукопись была словно незаконченная музыкальная пьеса. Состояние незавершенности значило больше, чем ее существование. Как дополнительный аккорд, я искал развязку, окончательную звуковую гамму.
Фелисити собрала посуду, отнесла на кухню и сложила в мойку. Я взял рукопись и двинулся к лестнице.
– Ты идешь собирать вещи?
– Я не поеду с тобой, – ответил я. – Я хочу закончить свою работу.
Она вышла из кухни. С ее рук капала пена.
– Питер, все решено. Ты едешь со мной!
– Я займусь своей работой.
– Что ты вообще там понаписал?
– Я уже говорил.
– Позволь посмотреть!
Ее маленькая рука протянулась ко мне, и я крепче прижал к себе рукопись.
– Никто не будет ее читать.
Она отреагировала на это так, как я и ожидал: неодобрительно прищелкнула пальцами и покачала головой. Делал я что-нибудь или не делал, это не имело для нее никакого значения.
Я сидел в одиночестве на скатанном спальном мешке, что есть силы прижимая к себе рукопись. И готов был заплакать. Внизу Фелисити обнаружила пустые винные бутылки и что-то обвиняюще крикнула мне наверх.
Никто никогда не должен был прочесть мою рукопись. Это был мой личный мир, определение моего «я». Я рассказал историю, чтобы она была читабельна, переработал и дополнил ее, но предназначалась она только мне одному.
Наконец я спустился вниз и увидел, что Фелисити выставила мои пустые бутылки в маленький коридорчик у лестницы. Их оказалось так много, что я с трудом сумел перешагнуть через них, чтобы попасть в белую комнату. Там меня ждала Фелисити.
– Зачем ты принесла в дом эти бутылки? – спросил я.
– Ты же не можешь оставить их в саду. Что ты, собственно, обо всем этом думаешь, Питер? Хочешь упиться до смерти?
– Я здесь уже много месяцев.
– Мы должны найти кого-нибудь, кто бы их забрал. Когда приедем сюда в следующий раз.
– Я не поеду с тобой, – сказал я.
– Ты можешь жить в комнате для гостей. Дети весь день гуляют, а я оставлю тебя в покое.
– Да, конечно. Почему бы тебе не сделать этого сейчас же?
Она уже собрала часть моих вещей и отнесла в багажник своего автомобиля. Потом закрыла все окна, закрыла водопроводные краны и вывернула пробки. Я молча наблюдал за этим, крепко прижав рукопись к груди. Все пошло прахом. Слова остались недописанными. Я слышал воображаемую музыку: звучал доминант-септаккорд, во все времена определявший звуки марша. Мелодия начала запинаться, как бывает с пластинкой, когда игла буксует на звуковой дорожке и музыку внезапно прерывают щелчки. И тотчас же игла адаптера в моей душе достигла последней внутренней бороздки, чтобы многозначительно проследовать дальше и равнодушно пощелкивать – тридцать три раза в минуту. Наконец кто-то поднял адаптер и на меня навалилась тишина.