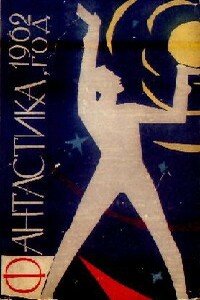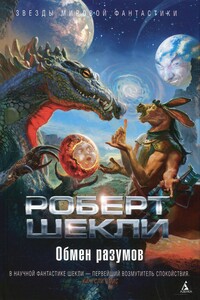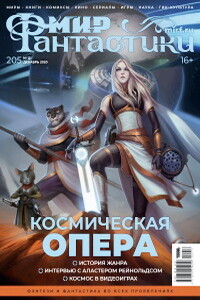Рисунок Дароткана | страница 14
Тогда моя еще незрелая мысль не умела отделять. Мне казалось, что напечатанные в хрестоматии слова, а в задачнике – цифры существовали, как в сказке, которую рассказывала жизнь, как в песне, занесенной в жарко натопленную школу вьюгой.
Гора гудела, когда я возвращался из школы, а в кожаной сумке свернулся притихший мир, заколдованный голосом Татьяны Прокофьевны.
11
Деревенская церковь и звук колокола, торжественно плывущий над медленно шествующей толпой.
Впереди – зеленоусый девяностолетний казак в синих штанах с красными лампасами.
Семенят старушки, и катят свое налитое здоровьем тело веселые девки.
Толпа плывет медленная, как звук колокола.
И вдруг время замыкает эту праздничную толпу в раму моего воспоминания.
Я хожу возле музейных стен и ищу ту картину, на которой спряталось мое детство.
Век убежал далеко от медлительной жизни, похожей на живопись передвижников.
Передвижники вряд ли думали о том, что им удалось вырезать кусок живого времени и вставить в раму, словно багетовая рама – это окно, через которое прошлое глядит на будущее.
У хороших картин есть невидимые глаза, которыми они могут видеть нас, зрителей, словно не они, а мы оказались в раме. Так по утрам стоящая за окном сосна или ель заглядывает в детскую сквозь сетку утреннего дождя.
12
Под горой родник. Рядом береза, наряженная, как девочка, пришедшая на праздник.
У нарядной березки нет будней. Ведь родник не замерзает даже в январе. И почти ежедневно останавливаются возле родника старые, подслеповатые эвенки и буряты, чтобы промыть в прозрачной воде свои пораженные трахомой глаза. Это они-то и наряжают березку, привязывая к ее ветвям разноцветные тряпочки.
Они благодарят и родник, бросая на его дно медные и серебряные монеты.
Сейчас здесь никого нет, кроме меня и Алешки.
Мы ползаем на коленях возле родника и шарим по его дну, ища засосанные песком гривенники и пятаки. Вода леденит пальцы. На траве валяется уже несколько гривенников и пятаков. Это наша добыча.
Тревожное чувство, что мы посягнули на достояние, честно заработанное тунгусским богом, не дает мне покоя.
– Это воровство, – говорю я.
– Откуда ты это взял?
– Август Юльевич уверяет.
– Какое же это воровство? – возражает Алешка. – Ведь родник не нуждается в гривенниках. Скажи, на что они ему?
– Но это же тунгусский бог. А деньги ему приносят в жертву.
– Кто это сказал?
– Август Юльевич.
– Когда?
– Давно. Еще до того, как у него сгорел ус.
– Дождется. Оба уса сгорят. Какое латышу дело? Ведь не из его кармана таскаем.