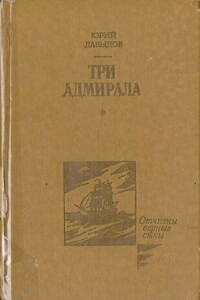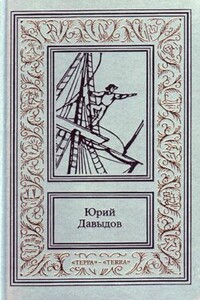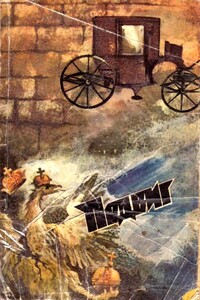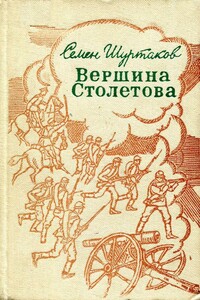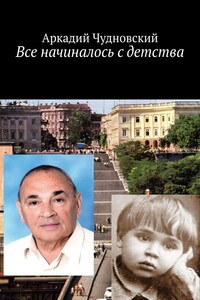Зоровавель | страница 22
Кому же, как не грубым, зримым рыть котлован. Упраздняя праздность, цыган-коваль вздувает горн и молотом стучит. Еврею в белы ручки дадена совковая лопата. Донскому земледеру и честь, и место в землекопах. Финн рыжий, а равно нерыжий, пильщиком и плотником вдыхает-выдыхает смолистый запах своей провинции печальной. А дикие сыны степей ломают глыбы в каменоломне.
Самосиянная держава была тюрьмой народов? Ложь! Все это называется «наиважнейшим делом о приведении в оборонительное состояние».
НЕ НАДО бегать по белу свету, а надо сесть в тюрьму. Смотреть и слушать: произойдет слияние Словесности и Истины.
И Кюхельбекер слышал матерщину – солдат и арестантов, унтер-офицеров, случалось и обер-офицеров, питомцев Инженерного училища, что в Петербурге, на Фонтанке. Кюхельбекер ушей не зажимал. Как всякий одинокий узник, он жаждал звуков, голосов. И вот – внимал. Heт-нeт да языком прицокивал. Но похабные фиоритуры, натуру обнажая, не приближали к Истине нагой, сюжетов не дарили. Тут Бог послал Кобылина, солдата.
В начале было слово. И вот что интересно, не матерное.
Однажды, стоя на часах в тот час, как южный ветер тучи развалил. Кобылин ахнул поэтически: «Прелестное небо!» И Кюхельбекер ахнул следом.
Конечно, Карамзин посредством бедной Лизы давно уж обьяснил, что и крестьянки любить умеют; Кюхельбекер с этим согласился априори. Но тут… Солдат не только чувствовал, он чувство изъяснил. Каков Кобылин!
Кюхельбекер, хоть и живал в Москве, просвирен с их чистой речью не знавал. Он знал матросов и солдат с их речью, не столько чистой, сколько смачной. А иногда неправильной, что, право, хорошо. Правильность еще афинская торговка считала меткой чужестранца и была права. Русскоязычный Кюхельбекер русской речи без грамматической ошибки не любил. Он учился на чужих ошибках – в Кронштадте, где жил у Миши, лейтенанта, в доме с мезонином и видом на Большой кронштадский рейд; и в Петербурге, на Екатерингофском, где флотский экипаж. Тот самый, да, гвардейский; на Сенатской бунтовщики смутились под картечью, он храбро крикнул: «В штыки, ребята!» Эх, стрюцкий, статский, ему ответили, как дураку: «Не видишь, что ли, они из пушек жарят!» Тоже, знаете ль, учение, но иного рода. Однако это к слову, а речь-то о словах… В кобылинской ремарке он восхитился прилагательным. О, ни один служивый тому лет десять нипочем не произнес бы – «прелестное небо». Извольте-ка не заключить, что век идет вперед!