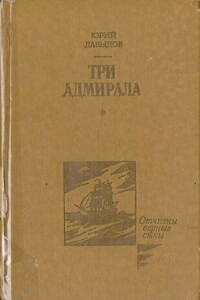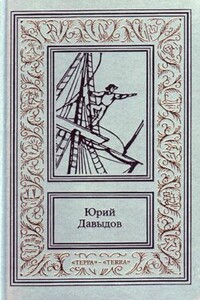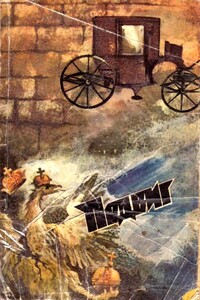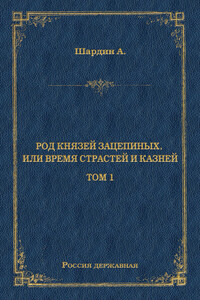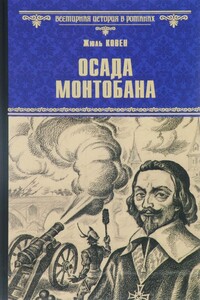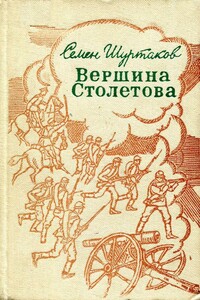Зоровавель | страница 18
Он бросился к дверям, он колотил, что было мочи, ногами и руками. Молчание. Всем длинным тощим телом он прилепился к двери, расплющив ухо.
Солдат Кобылин, цербер каземата, храпел взахлеб, и этим храпом разрывал оковы службы царской. Какому узнику-мятежнику не в радость уснувший безмятежно страж? Но Кюхельбекер вздрогнул и потерялся. Точь-в-точь, как на Сенатской, когда не грянул пистолет, а лишь прищелкнул, как орех в щипцах.
Ошеломленный, он тихо-тихо попросил: Кобылин, принеси перо, бумагу…
Есть обстоятельства, при коих шепот бьет без промашки: ведь с уха на ухо размен паролем и отзывом. Кобылин враз проснулся и осолдател, не увидев разводящего. И всполохнулся смертным перепугом: сон на постy подобен захвату в плен. А барин требует перо, бумагу. Барин – государственный преступник – напишет государю. Хоть видом не злодей, нутром-то ябеда, ну, быть беде.
Я ДОЛЖЕН говорить об очной ставке, которую 1826 года 30 марта имел с несчастным Иваном Пущиным. Я сказал: «Внутренне и перед Богом я убежден, что то был Пущин, но перед людьми утверждать того не смею». Затем предложено мне было подписать бумагу, которой заключалось под присягой, что наущеньем Пущина я согласился стрелять в Великого Князя Михаила Павловича. При слове «присяга» усомнился; мне отвечали: «Вы же только что призывали в свидетели Бога – почему же не хотите подписаться?» Я подписал, малодушие непростительное. Едва я возвратился с очной ставки, как начали меня мучить угрызения, которые с той поры меня никог да совершенно не покидали. Несколько раз в течение дел Следственной Комиссии и Верховного Уголовного Суда силился я смягчить мое показание, но сии усилия должны были быть гораздо решительнее. Когда нам прочли приговор наш, я несколько успокоился, ибо в сентенции Пущина мое показание не упомянут. Тем не менее подозрение, касательное его, может быть, существует во мнении Правительства. Моя обязанность, невзирая на то, чему бы я сам через то мог бы подвергнуться, стараться уничтожить сие подозрение.
Итак, приступаю к причинам, но коим отречение Пущина заслуживает гораздо большего вероятия, нежели мое несчастное показание.
Пущина, с которым вместе рос и воспитывался, я всегда знавал человеком благородным, правдивым и бесстрашным, не способным отклонить от себя ложью какую-нибудь ответственность.
Во-вторых, всем моим родственникам и знакомым известно, что я бывал подвержен временному затмению умственных способностей. Свидетельство человека, страждущего подобным недугом, никоим образом не может быть принято за достоверное.