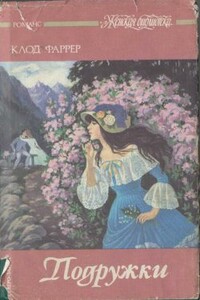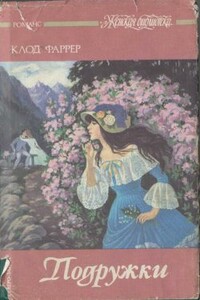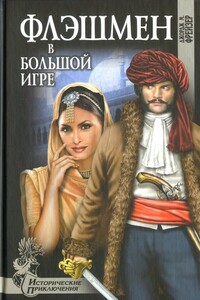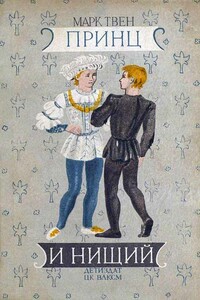Во власти опиума | страница 75
— Mundi amorem noxium horresco «Преступная любовь внушает мне ужас.».
Эфир не умела читать. Говорила она только по-французски — и то в ее речи было много бретонских выражений.
Она снова заговорила тем же строгим голосом монахини или игуменьи:
— lejunus carnem domans dulcique mentem pabulo nutriens orations, coeli gaudis potiar «Укрощая мою плоть постами, питая душу сладкой пищей молитвы, достигну я небесных радостей.».
Курильщики не удивлялись. Несомненно их дематериализованному уму казалось естественным то, что меня поражало. Один только желто-синий клоун приподнял свои брови и взглянул на женщину. После этого он обратился к ней более вежливо, чем это у нас было в обычае.
— Напрасно вы стоите. Вы так устанете. Она не пошевельнулась и сказала:
— Fiat voluntas dei! Iter arduum peregi et affligit me lassitude. Sed dominus est praesidium «Да будет божья воля. Я прошла трудный путь и устала. Но бог поддержит меня.». Он с любопытством спросил:
— Откуда пришли вы? Она ответила:
— A terra Britannica. Ibi sacrifico sacrificium justitiae, qua nimis peccavi, cogitatione, verbo et opere. Mea maxima culpa «Я пришла из страны Бретани. Там принесла я справедливую жертву, так как много согрешила словом, делом, помышлением. Велик мой грех.».
— Какой ваш грех, — снова спросил ее клоун.
— Cogitatione verbo et opere. De viro ex me filius natus est «Помышлением, словом, делом от мужа мною сын рожден.».
Я ясно видел, как покраснело ее бледное лицо. Она продолжала говорить по-латыни, средневековою латынью монастыря и требника, которую я понимал, вспоминая изречения из библии; запах опия помогал мне вспомнить катехизис. Я сидел около лампы и во время этого разговора ждал, пока зашипит на кончике опий. Только это одно и уменьшало мой страх, — глухой страх, от которого у меня щемило в груди и который держал меня под своей властью, несмотря на внешнюю простоту всей этой сцены. Нервы Гартуса окрепли от выкуренных трубок и он говорил спокойно. Я смотрел то на него, то на нее, и образ их обоих до такой степени глубоко врезался в мой мозг, что ничего не изгладит из моей памяти этой сцены. Я и сейчас их вижу. Он желто-синий сидит на корточках на циновке, рукою опирается об пол; лампа по временам бросает светлые блики на его длинные черные волосы. Она, странная, чуждая, стоит голая, спиной обернувшись к стене и заложив руки за голову. Между ними шел живой обмен слов, и в то же время комнату все больше наполняло веяние чего-то замогильного… Голос незнакомки сохранял прежний монашескими тембр, но постепенно он звучал с большей силой, как бы приближаясь. Фразы сначала были отрывисты и коротки, но потом торопливые фразы спешащей путешественницы, не имеющей времени разговаривать, перешли в длинные периоды; уже говорилось о незначительных деталях; фразы были уснащены цветами реторики. Я слишком мало интересовался церковью и слишком был неуравновешен, чтобы понимать разговор. Позже я расспрашивал обо всем этом Гартуса, который знает язык духовным семинарий. Но он не любит разговаривать на такие темы, и я от него ничего не добился.